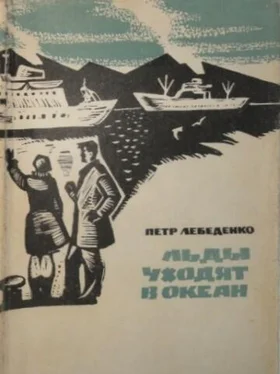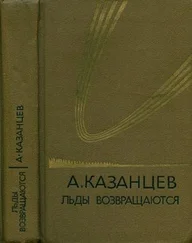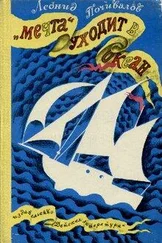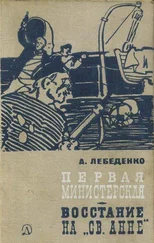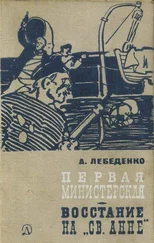— Заслужили, — соглашается Смайдов. — И не только мы с тобой.
— Чудак. Когда говорю «мы», это не значит — ты и я. — Он встал, подошел к стене, на которой висела большая фотография всех летчиков их полка перед отправкой на фронт. — Тут нас чуть ли не сотня. А сколько осталось?.. Я говорю обо всех. Потому что мы с тобой — это и те, которых уже нету. Одно. Ясно тебе?
— Ясно. Мы с тобой — это и те, которых уже не будет. Иногда выть хочется от горя. Знаешь, как воет одинокий волк: длинно и тоскливо.
— Выть? Как одинокий волк?
Годин этого не признавал. Волки воют потому, что они — волки. А человек всегда должен оставаться человеком. Жизнь — штука весьма короткая! И смотреть на нее нужно повеселее.
Он обвел глазами комнату, задержал внимание на подоконнике, где в футляре из-под полевого телефона торчал в засохшей земле одеревеневший стебель какого-то цветка, остановил взгляд на куче окурков у печки, посмотрел на грязные тарелки, громоздившиеся на кухонном столе, и только тогда снова обратился к Смайдову:
— Значит, выть? Как одинокий волк? Длинно и тоскливо?
Он вдруг резко сел напротив Смайдова, налил рюмку спирту, выпил одним духом. И неожиданно трезво сказал:
— Слушай ты, одинокий волк! Если бы был жив наш первый комэск, которого фрицы срубили… Когда?
— Семнадцатого февраля тысяча девятьсот сорок третьего года.
— Хорошо, что помнишь. Так вот. Если бы он пришел сейчас в этот вертеп, называемый квартирой бывшего аса Петьки Смайдова, знаешь, что он сказал бы? Знаешь, а?
Петр Константинович пожал плечами:
— Что тебе тут не нравится?
— Он сказал бы так, — продолжал Годин: — «Товарищи летчики, предлагаю вычеркнуть из списков эскадрильи Петра Смайдова, чтобы не была опозорена честь нашей боевой единицы. Потому что он опустился, как последний кретин, потому что его устраивает жизнь одинокого волка, которому начхать на все человеческое». И первым проголосовал бы за предложение своего комэска я. Ты меня понял? Понял, я тебя спрашиваю?
Петр Константинович сказал:
— Ты чудак, Колька. Я совсем не опустился. Мне просто сейчас чего-то не хватает…
— Ах вот оно что! «Чего-то не хватает». А что ж тебе мешает обзавестись «чем-то»?
— Кому я нужен такой? — Петр Константинович показал на протез. — Вызывать к себе жалость? Не по мне, друг. А случайные связи мне противны. Не скрою — было такое. И после этого чувствовал себя законченным подонком. Это трудно понять?
— Почему же трудно? Особенно насчет вот этого, — Годин тоже взглянул на его протез. — Жалкий калека, неполноценность… Любая девушка, которой ты осмелишься предложить стать твоей женой, скажет: «Ах что вы! День и ночь горько плакать, глядя на вашу неживую руку? Загубить свою молодую жизнь? Нет уж, пардон-с, я отказываюсь…»
— Плоская шутка, — ухмыльнулся Смайдов. — Тебе не понять до конца таких, как я.
Колька Годин был известен тем, что никогда не выходил из себя. Бывало, целую неделю подряд стоит мерзкая погода, аэродромы или раскисли, или закрыты туманом, летчики бесятся, становятся раздражительными и злыми, как черти, а Колька Годин балагурит как ни в чем не бывало, будто у него вместо нервов натянуты веревки.
Смайдов знал эту черту друга, поэтому очень удивился вспышке ярости, прорвавшейся как-то сразу. Годин резко смахнул со стола и рюмки, и бутылку с остатками спирта, приподнялся и зло посмотрел на Смайдова.
— Плоская, говоришь, шутка? А ты-то сам, черт бы тебя подрал, как шутишь? Где ты живешь? В каком обществе ты живешь, я спрашиваю? И чего ты напустил на себя этакую ипохондрию? Калека! Какой ты, к дьяволу, калека, чего ты корчишь из себя жалкого сиротинушку, забытого людьми и богом?! Люди возвращались с фронта без рук и без ног, опаленные, обожженные, и их встречали так, словно это были самые красивые люди на земле. Ты этого не знаешь? Не знаешь, а? Ты же всегда был первым жизнелюбом, и мы восхищались этим. Ты забыл?
— Я и теперь жизнелюб, — сказал Петр Константинович. — И если хочешь знать, в большей степени, чем прежде. Но я отлично понимаю, что не имею права связывать чью-то судьбу со своей… И давай больше об этом не говорить. Все равно мы не сможем понять друг друга…
Они расстались холодно, значительно холоднее, чем Смайдову хотелось бы. Петру Константиновичу в его состоянии показалось, что Колька Годин стал совсем другим человеком: то ли черствее, то ли жестче, что в нем уже не было того тепла, которым он раньше щедро делился с друзьями… А может быть, это только кажется? Может быть, Кольке сейчас просто не до разных там тонкостей, волнующих его друзей? Командир полка, постоянная учеба, полеты, общественная работа — тут не до чужих сантиментов!
Читать дальше