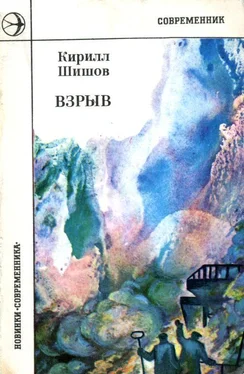И вдруг — многоцветные, громогласные, хохочущие три девушки с визгом промчались мимо, в глубину настороженной воды. Они были рослыми, крепко сложенными, по-майолевски коренастыми, ошарашивающими в своей обнаженности. Фонтаны брызг радугой загорелись вокруг них, и в ореоле красок их силуэты выглядели неправдоподобно-живописными, словно сами грации плескались в отягощенной золотом воде. Он стоял, потрясенный этой первозданной свежестью, непривычной после долгой зимы наготой, крупными яблоками сильных грудей, крутыми спортивными торсами. Стоял и не дышал от восторга, стараясь сохранить в памяти мгновение их появления, музыку их голосов, спутавшиеся намокшие хвостики их волос…
Мои яблони, которым под двадцать лет, начали стареть. Кора у них полопалась, стала сухой и шершавой, в язвина и шрамах. Буйно цветя весной, они к июню усыпали приствольные круги мелкими засохшими головками недозрелых яблочек. Им было не под силу выкормить двадцать ведер ненасытных сосущих утроб.
Я решил вырубить их и посадить новые, привитые в питомнике сорта. Сосед, к которому я пришел за топором, узнав причину, хмыкнул: «А ты кору скоблил?» Я не понял. «Кора у тебя от известки состарилась, а сила в дереве есть. Надо дать ему дышать, понял». И он старательно очистил стальной щеткой всю шелуху со стволов.
Год яблони не плодоносили, а потом — снова наливались янтарным медом плоды, гнулись в августе отягощенные ветви, и я восхищался про себя, собирая ведра полновесной ароматной отдачи за доброту. Маленькая забота — и прянула тайная сила дерева, давая мне урок, молчаливый урок человечности…
Прошлое! Как явственно я слышу твой негромкий взыскующий голос…
В маленьком городке Уфалее, на демидовском заводике, что стоит в низинке под намывной плотиной, обследовал я старинный закопченный цех. Двести лет катают в нем один и тот же кровельный стальной лист, неказистый на вид, с подпалинами и маслянистыми пятнами. Я наблюдал, как, затаив дыхание, прокатчик в стальной маске из проволоки, стоя в полуметре от бешено вращающихся валков, ловко хватает клещами раскаленную болванку — «сутунку», так называют ее здесь — и точно, мгновенно заправляет ее в верхнюю клеть. Секунда-другая — и снова быстрое подсекающее движение в такт машине…
Жара, дым в глаза, копоть. Силы хватает на пять минут, и потом человек, запаленно дыша, садится на лавку рядом передохнуть, а на его место в фартуке забытых времен встает другой — почернелый, жилистый, в расстегнутой у ворота чумазой рубахе… «Уральский способ проката, — отворачивая лицо от жара, кричит мне инженер, — таким листом даже английский парламент крыт…»
Стоит на Темзе стрельчатый замок закона. Заседает в нем десятое поколение скептиков и иронистов. И десятое поколение не ржавеет тонкое уральское железо, что покрывает добротное помещение палат лордов.
Есть у нас сейчас и скоростные автоматы, из которых со скоростью поезда рвется стальная звенящая полоса. Есть чуткие пальцы, что исполняют на кнопках пультов ноктюрны двадцатого века. Но стоит и древний заводик с просоленными от пота мастеровыми, и идет в двенадцать государств единственный в мире кровельный стальной лист, сделанный по-уральски: с окалиной от древесного березового угля, с никелевой тайной присадкой, от которой не гниет кровля столетия под любым дождем… Даже лондонским.
В июне отпели соловьи в логу. Утихли их истомные щемящие щелканья, всегда неожиданные по ноте, взволнованные и захлебывающиеся. С первыми зрелыми плодами земляники, с укосной травой и новолунием запели песни ласковые малиновки — любимые мои птицы. Нет в их напевах лукавого дурмана страсти, нет перехлеста чувств. Ровная волшебная трель их наполняет душу спокойствием и отдохновением. Где-то в густом кустарнике в плетеных гнездах вот-вот вылупятся из крапленых яичек мокрые крохотные птенцы. Некогда потом будет петь, славить жизнь…
И чувствует душа короткую материнскую радость птицы, радуется вчуже ее пичужьей любви, пьет пахнущие разнотравьем ароматы лета. Коротки эти мгновенья и у птицы, и у человека…
В тряском троллейбусе, в пестрой толкотне лицом ко мне стоит молоденькая девушка. Она прелестна той мгновенной красотой юности, что придает обаяние каждому жесту, каждой улыбке. Молочно-чистое личико с черносмородиновыми глазками, беличьи бровки и крохотный ротик, открывающий в улыбке мелкие мраморные зубки. Она невольно кокетничает и капризно кривит рот, когда троллейбус резко тормозит, и шейка ее трогательно-беспомощно выглядывает из ровного, с ленточкой обреза кружевной кофточки-безрукавки. В ней все изящно — крохотные раковины ушей с простыми крыжовенными клипсами, павший на лоб каштановый завиток, белая гипюровая юбочка с полотняными пуговицами и шлицами. Даже розовый стыдливый цвет комбинашки, что виден в прорезы блузки, наивно просит обратить на нее внимание, заметить ее выход в свет…
Читать дальше