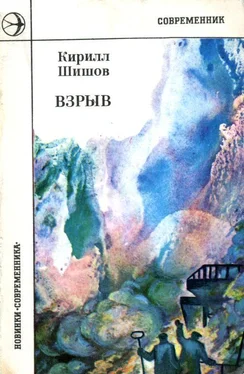Мы рыли погреб в сарайке нашего соседа Самуила Гершевича — толстого лысого еврея, похожего на римского патриция своим орлиным носом и обрюзгшим лицом. Самуил Гершевич был снисходителен ко мне, потому что много лет лечился у моей матери, каждый вечер заходил к нам в халате и тапочках на босую сизую ногу, долго сидел, попивая чай и рассуждая обо всем: о болезнях, о ценах, об очередях — словом, о том, что меня нисколько не интересовало. Но я умел поддакнуть ему, когда он, картавя, принимался ругать мальчишек во дворе, бросающих ему в окна камни или барабанящих в двери по вечерам, и, кроме того, я сдавал его пустые бутылки в киоск, аккуратно принося медь и серебро. Поэтому он, долго колеблясь, все-таки решился передать мне толстый замасленный ключ от сарайки, где хранил рухлядь: ломаную тару от посылок многочисленных родственников. Я клятвенно обещал ему не устраивать там пожаров, не выкидывать ни одной доски, а только потихоньку играть в углу в штаб. Нечего говорить, что все наши договоры были закреплены моим обязательством покупать ему ежедневно булку пеклеванного и сообщать о продаже кур в любом из бесчисленных вокзальных киосков и магазинчиков. Самуил Гершевич ел только кур и селедочный форшмак.
Воплощение замысла требовало много сил и упорства. Глинистый твердый грунт копался с трудом. При свете «летучей мыши», подвешенной к перекрытию подвала, мы, напрягая в полутьме глаза, ковыряли яму попеременно то осклизлым тяжелым багром, утащенным с соседней пожарки, то тупым широконосым кайлом, найденным в металлоломе за школой. Черствая, как асфальт, глина, высохшая за многие годы в подвале, отваливалась по крохам, и за день мы едва наковыривали ведро-два, вытаскивая их, потные и запаленные, уже под вечер на помойку. Меры потаенности, принятые нами, отчуждали нас от друзей, от двора, и мы ходили с Рафиком бледные, с землистыми лицами, засыпали на уроках, но головокружительные видения кубрика, обитого фанерой, с вертикальным трапом и иллюминаторами пьянили нас.
Васька все более и более мрачнел, уводя остатки своей компании на дерзкие рейды по окружным местам. Дальние, немыслимые для нас районы Колупаевки, Порт-Артура, Косовского сада, дразня названиями, обычно были недоступны для вокзальских мальчишек. Перспектива вступить в драку на каждом шагу из-за косо брошенного взгляда, грозное «ты чо?», «в морду хошь?» заставляли нас отсиживаться в обжитом привокзалье, между шумным базаром, «переселенкой» и паровозным депо, хотя полулегендарные слухи об острожных башнях в Порт-Артуре, о правдишных полигонах танкового училища в Колупаевке доходили до нас, дразня воображение. Лишь Васька имел в этих районах друзей. Лишь он мог позволить себе появиться там средь бела дня с двумя-тремя ординарцами и лазать где заблагорассудится.
Филька, как обычно, заигрывающий с нами, но верный Васькиным кулакам, рассказывал нам о путешествии в старую водонапорную башню в Порт-Артуре. Он хвастался, что летом Васька поведет всех записываться в настоящий яхт-клуб на Смоленом озере позади вокзала, и все они составят настоящую команду шлюпки… Однако я чувствовал за его быстрыми, словно семечная шелуха, словами глухую угрозу нашему делу и из последних сил торопился закончить оборудование кубрика. Когда все будет готово, и развешены карты, и сделана медными буквами надпись «Штаб», никто из ребят не удержится примкнуть к нам, думал я. И тогда нам плевать на Ваську и его кулаки и стальные, с прищуром глаза… Плевать…
Но закончить своего дела мы не сумели. В последние дни третьей четверти, засидевшись допоздна в школе над задачками на молекулы, я вдруг увидел приплюснутые к мерзлому стеклу плоские носы моих соклассников. Рафик и Филька, отчаянно жестикулируя, показывали мне куда-то в сторону двора, выразительно закатывая глаза и чуть не рыдая от эмоций. Опрометью, сунув в портфель недорешенные молекулы и что-то буркнув молоденькой учителке, я выскочил из вестибюля школы. Перепуганные, дрожащие ребята рассказывали мне, что в подвале возник пожар, понаехала куча машин и вот уже час туда под напором льют воду. «Все пропало», размазывая слезы по щекам, гундосил Рафик, а Филька, тревожно и хмуро отмеживался: я ничего Ваське не показывал, он только знал, что вы роетесь, а где — он не догадывался…
Когда мы примчались, запыхавшись, во двор — сизый дым жидкой струйкой тянулся из нашего подвала. Рослые, хрустящие брезентом, пожарники скатывали шланги, а управдом озабоченно гремел громадным замком на наружной двери. Мы стояли в куче сопливой и равнодушной пацанвы, кусали от боли и обиды губы, но я почему-то с облегчением почувствовал радость. Я догадывался, чьих это рук дело; я знал, что Васька не оставит нас в покое уже ни в каком деле, но я обрел веру в себя, в свою выдумку. И у меня было легко на душе: сгорела моя подростковая пора — пора стадности и соперничества. Я входил в юность…
Читать дальше