— Что понятно?
Мамыш, не глядя, сказала:
— Сынок во сне повторял: «Тойджан не писал Олге».
— Вот видишь, уже догадываются, что Тойджан не писал Ольге, а скоро разберутся, кто писал!
Старуха, занятая своими мыслями, снова повторила:
— Так и говорил: «Тойджан не писал Олге…»
— Так я же о том и толкую, что письмо писал я сам!
— Можно сказать, как в жару бредил: «Тойджан не писал Олге…»
Ханык потерял терпение:
— Что ты, мамочка, как наседка, кудахчешь одно и то же?
Мамыш сверкнула глазами.
— Как наседка?
— Не сердись, мамочка, мне нужна твоя помощь. Хорошо, если бы ты, когда дойдет до тебя дело, сказала, что сама просила сочинить это письмо.
— Я должна клеветать на себя?
— Мамочка, я ведь не для себя старался…
— Но почему же я должна лгать?
— Есть же поговорка: «рука руку моет, и обе чистые?»
Немного подумав, Мамыш ответила:
— Ханык-джан, если нужно, я могу стирать на тебя, носить на работу обед, если в деньгах нуждаешься — помогу, сколько возможно, но не толкай меня на ложь! Никто ведь не станет наговаривать сам на себя.
Упоминание о деньгах на минуту приласкало слух Ханыка, но, сообразив, что старуха может попросить деньги у Нурджана и проболтается, он сказал:
— Ай, мамочка! Не бывает сладкой пищи без горькой отрыжки. И в кишмише есть косточки, попадаются и стебельки. Если будешь гнаться только за тем, чтобы быть чистенькой, птица счастья никогда не сядет на твою голову! Не удастся тебе увидеть Айгюль в своем углу, украсить свой дом. Подумай как следует и ответь мне. Хорошо?
Мамыш послушно погрузилась в глубокое раздумье. Если она отвернется от Ханыка, поводья счастья уйдут из рук. В ее углу сядет иноязычная, и, что хуже всего, от веку чистый род Атабаевых загрязнится. Но, если запеть под музыку Ханыка, придется лгать. Одно дело, когда судачишь со старухами и приукрасишь свой рассказ какой-нибудь подробностью для пущей убедительности. Другое — явная ложь. Это непростительный грех. Солжешь, а что будешь говорить в день страшного суда? Или еще хуже: призовут на какое-нибудь собрание и скажут: «Ты писала письмо! Ты враг нашего строительства и самая настоящая националистка!» Это очень просто может случиться! Или Нурджан придет и скажет: «Если моя мать — игрушка в руках проходимца, мне не нужна такая мать!» И тогда Мамыш умрет на месте.
Она тяжело вздохнула, поплевала себе за ворот и, глядя на Ханыка ясными глазами, сказала:
— Дорогой мой, я не могу солгать.
Дурдыев заморгал, физиономия его задергалась.
— Может, ошибаешься?
— Нет, дорогой, не смогу!
— Ну тогда, мамочка, пеняй на себя! Если хочешь за мое же добро ткнуть меня носом в землю, подумай, как я расплачусь с тобой!
Похолодев от ужаса, старуха смотрела в исказившееся злобой лицо Дурдыева. И подумать только, что она приняла его за пророка Хидыра! Это же обезьяна, настоящая обезьяна! Обрадуешь его — вознесет тебя на небеса, обидишь — толкнет прямо в ад. Да что там обезьяна! Это злой дух в образе человека! Как только вырваться из его тисков?
— Ханык-джан, — сказала она ласково, — я не желаю плохого людям. Если нечаянно наступлю на муравья, у меня сердце кровью обольется… И вовсе не хочу ткнуть тебя носом в землю. Если ты такой обидчивый, давай лучше, пока мы совсем не разобидели друг друга, развяжем свой уговор. Я тебе не мать, ты мне не сын. Разойдемся, как будто и не знаем друг друга?
— Ах, вот как? — Ханык подскочил, будто накололся на иголку. — Хорошо, тетушка! Я уйду. Только рассчитай свои силы, сможешь ли вынести грозу, которую я обрушу на твою голову? Ты, конечно, больше меня топтала снег, больше меня съела хлеба, но не тебе сравниться со мной хитростью! Я найду свидетелей, что ты заставляла меня писать письмо, и тебе никто не поверит!
— Свидетелей? — ужаснулась старуха.
— И самый маленький из них, самый ничтожный, будет Эшебиби!
Хотя Мамыш и чувствовала себя воробышком против Эшебиби и боялась ее больше кары небесной, но ее привели в бешенство слова Ханыка. Как смеет угрожать ей этот чесоточный щенок! За что она должна расплачиваться? Только за то, что открыла проходимцу свое исстрадавшееся материнское сердце?
— Ты запомни навсегда со всей своей хитростью, что Мамыш запугать нельзя! Если заставишь меня вспыхнуть, я так надую свой платок, что ты полетишь, как соломенная труха, и не сможешь выговорить имени матери своей! А сыновьям про письмо я сама скажу, и тогда ты увидишь, как угрожать беспомощной старухе!
Читать дальше







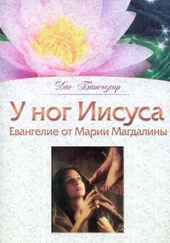

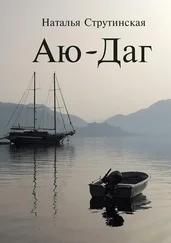

![Никлас Натт-о-Даг - 1793. История одного убийства [litres]](/books/423344/niklas-natt-o-thumb.webp)
