На следующий день староста пришел и потребовал кабана. Дарью вместе со свекровью и дочкой отвели в полицию. В полиции Дарью били деревянной лопатой, которой веют хлеб. Потом ее, свекровь и дочку погнали в город Логойск, в гестапо. В гестапо Дарью били резиновыми ремнями. Из Логойска погнали в минскую тюрьму. Свекровь умерла в Логойске. Она не выдержала резиновых ремней. А Дарья все стерпела. Она шла по пыльной дороге, несла на руках дочь и шаталась. На окраине Минска к ней подбежала какая–то женщина, вырвала из рук дочь и крикнула: «Сохраню, не сомневайся!»
У Дарьи вся одежда прилипла к исполосованному ремнями телу, и она думала, что все равно умрет на дороге, и отдала дочь.
В Минске Дарью посадили за ограду из колючей проволоки. Здесь было столько людей, что даже лечь негде. Потом люди начали умирать, и стало свободнее. Ела Дарья картошку, которую охранники выставляли в деревянном корыте. Опухшие ноги Дарьи болели, стала лопаться кожа на подошвах. Она не могла ходить и подползала к корыту на четвереньках. Осенью тех, кто остался в живых, послали заготавливать торф. Люди были такие слабые, что тонули в ямах, откуда брали торф. На зиму заключенных перегнали в лес — заготавливать дрова. В лесу многие замерзали. Весной Дарью отправили на кожевенный завод. Здесь она в бадьях мыла кишки, которые немцы тоже, как и всё, увозили к себе. На заводе Дарья заболела заражением крови, но ее все–таки заставляли работать. Мастер бил пружиной, которая, растягиваясь при взмахе, доставала человека, если он стоял даже в трех шагах от мастера. Но Дарья не умерла.
Прошло два года. Заключенные работали у немецкого помещика, которому были отданы усадьбы и прилежащие земли. Раньше здесь помещался дом отдыха трудящихся Минска. Днем заключенные работали, ночью их сгоняли в концлагерь на песчаном карьере. От усадьбы до карьера четырнадцать километров.
Дарья сплела как–то ивовую корзину. Эту корзину увидела кухарка помещика, немка, и велела Дарье сплести еще такую же корзину, но только побольше. Дарья сплела корзину. Немец–часовой знал о заказе и разрешил Дарье отнести корзину кухарке. Дарья вошла с корзиной в комнату кухарки и увидела, что она спит. Тогда Дарья поставила корзину на пол, а кухарку задушила и убежала.
Сорок человек из концлагеря фашисты расстреляли. Дарью поймали в Минске, где она собирала милостыню, притворяясь глухонемой. Теперь она очень хотела жить, хотя раньше все время хотела повеситься и два раза топилась в торфяной яме, но оба раза ее спасали. В ночь перед приходом Красной Армии в Минск заключенные в районе военного городка разбежались, и фашисты не успели убить их. Вместе со всеми убежала и Дарья Гурко.
В сожженной врагом деревне Михеды, километрах в сорока пяти от Минска, мы встретили Дарью Гурко.
На опаленной земле, у развалин печей, сидели люди. И не было слез у них на глазах. Сосредоточенно и деловито складывали они шалаши из досок, с великим упорством обживали родимую разоренную землю. И в тишине белых сумерек громко и властно звучал женский голос:
— Ребят общим котлом кормить надо. Мы от сухомятки не обезживотим, а детишек в заморе держать никак не позволю. У кого что есть — выкладывай!
Потом тот же голос мы слышали на дороге, где саперы выискивали мины:
— Если вам, ребята, недосуг по хлебам пройтись, так вы укажите, как мины вытаскивать, а я бабам объясню, мы сами справимся, а то фашист хлеба заминировал и нам к ним ходу нет.
Потом мы слышали песню у костра. Ее пел все тот же женский голос. Когда подошли к костру, мы увидели женщину, худую, с темным, глиняного цвета лицом, в заплатанном, изношенном донельзя рубище. Но когда она взглянула на нас, мы увидели ее глаза. И столько в них было необыкновенного, какого–то особенного, сильного внутреннего света — выражения ума, власти и воли к жизни, — что слова любопытства застряли в горле. Но она, словно угадывая, спросила насмешливо:
— Что, товарищи командиры, небось дивитесь? Пришла баба из немецкой тюрьмы, вместо дома уголья, а она песни поет?!
И вдруг лицо Гурко изменилось, еще больше потемнело, и она глухо произнесла:
— Я при гитлеровцах не плакала, не жаловалась. Но что за эти три года было — век помнить буду. Только вы мне объясните: с чего бы лучше сразу начать, чтобы все аккуратно получилось? Я тут сейчас вроде Советской власти. Меня, как самую закаленную, другие семейства над собой поставили. Уборка будет — большая забота. Инвентарю — раз, два: грабли и лопата. Нужно идти в лесу немецкую трофею искать.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
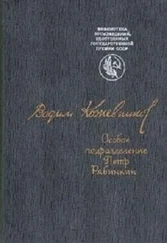

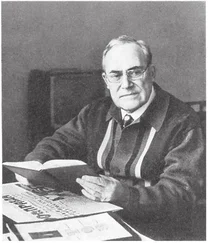

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)