Пожарные со всего города съехались. Стали они осторожно пластырь брезентовый с крыши нефтехранилища сдирать. Но огня уже не было. Сдох пожар без воздуха.
А когда Назарова вытянули на тросах наружу, у него весь костюм водолазный — как кисель: разъела нефть. Внутрь залилась. Но в колпак медный ее воздух не пускал. Парень, конечно, без памяти был.
Бодров вздохнул и сказал:
— Вот бы про этого паренька сочинить что–нибудь да в книгу, а книгу Коровкину прочесть — настроение у него сразу бы улучшилось.
Послышался стонущий гул мотора. Он то нарастал, то почти исчезал, то возникал с новой силой.
Бодров схватил полушубок и, набросив его на плечи, крикнул мне:
— Голаджий прилетел! Аэродром ищет. Плутает, видно. Ах ты, оглашенный какой человек! — И выскочил наружу.
Минут через двадцать Бодров и Голаджий вошли в блиндаж. Стряхивая с себя снег, Бодров, глядя на Голаджия, с тревогой спросил:
— Где это ты так извозился?
— Маслопровод лопнул, всего захлестало, — равнодушно объяснил Голаджий и полез в карман.
Он вынул пропитанную маслом, слипшуюся в смятый ком какую–то тоненькую книжку. И лицо его стало плачевно–грустным, и он дрогнувшим голосом растерянно произнес:
— А я еще библиотекаршу будил, ругался с ней, насилу вытащил, обещал книгу вернуть…
Он попробовал выжать масло из обесцвеченных страниц Джека Лондона, но от этого бумага только расползалась.
— Так ты в город летал! — восхищенно воскликнул Бодров.
— А то куда же еще? — зло сказал Голаджий.
Потом он взял телефонную трубку, позвонил синоптику и осведомился, какая погода будет завтра к утру.
Укладываясь спать, он сказал Бодрову:
— На рассвете меня разбудишь.
— Снова полетишь?
— А что же ты думал! У них один экземпляр, что ли? — сердито сказал Голаджий и, натянув на голову одеяло, сразу заснул.
И вот с того дня прошло два месяца.
Однажды, приехав в 5‑й гвардейский полк, я увидел на аэродроме знакомую мне фигуру летчика, коренастого, со светлым чубом на лбу. Только на пухлом улыбающемся лице был синий шрам.
— Коровкин! — крикнул я изумленно. — Ну как? Выздоровел? Все в порядке?
— Все в порядке, — сказал Коровкин, — летаю на полный ход. — И, хитро прищурившись, добавил: — Лихо Я своего доктора переспорил!
Я дождался вечера, когда летный день был закончен: разыскав Коровкина, отвел его в пустую комнату красного уголка и спросил:
— Слушай, Миша, а книжку–то тебе Голаджий достал?
— Это Джека Лондона?. Достал. — И вдруг лицо его стало грустным, задумчивым, и он объяснил тихо: — Только я ее прочесть не мог тогда: голова очень горела. Но вот о Ленине я думал. Как он тогда лежал, мучился и, когда легче становилось, работал и только о жизни думал. Не о своей — о нашей, о жизни всех нас. И стала она мне, моя жизнь, после этого необыкновенно дорогой. И так захотелось жить, выздороветь… Ну вот и выздоровел. Доктор после так и объяснил, что волевой импульс — это самое сильное, говорит, лекарство.
1942
На стремнине облас ударил о корягу, черную, с корнями, похожими на клубок окаменевших змей. Несколько мгновений облас, как конь, вставший на дыбы, почти вертикально висел в воздухе. Потом твердая от холода вода Амура схватила Ганси и, тесно сжимая в двигающихся упругих струях, увлекла куда–то в глубину.
Ганси зажмурился и стал спокойно тонуть. Собственно, Ганси тонуть не собирался, но только расчетливо ждал, когда отец его, великий охотник Дмитрий Киля, нырнет в сумрачную глубину и вытащит его туда, где солнце и тепло. Но отца не было. Сильная, бегущая со скал вода душила Ганси, но отца не было. Тогда Ганси рассердился и, размахивая руками, всплыл вверх.
Отец сидел верхом на перевернутом обласе. Увидев Ганси, он отвернулся и стал петь про то, что с ними случилось. Ганси пытался забраться ка облас, чтобы сесть верхом, как его отец. Но руки скользили по заплесневевшему днищу, и он снова тонул, и скользкая сильная вода снова душила его в гудящей темноте.
Вынырнув, Ганси закричал:
— Ты, кусанный всеми собаками, облезлый черт, возьми меня к себе, а то я укушу тебя за ногу!
Отец рассмеялся, поднял ноги, сел на днище обласа, обхватив колени руками, и запел о том, как у одной росомахи родился длинноухий заяц и как ей после этого было стыдно.
Никто никогда не пел в глаза Ганси этой позорной песни. И ему стало жарко от гнева в ледяной воде Амура. Царапая ногтями осклизлое дно обласа, он забрался наконец наверх и, усевшись верхом, долго не мог вымолвить ни слова. Потом, ткнув отца в спину кулаком, он сказал:
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
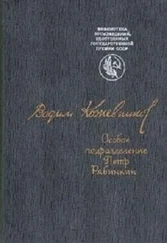

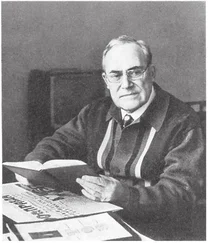

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)