Балуев старался сейчас сосредоточить все свои мысли на дюкере. Этап за этапом, с учетом всего того, что случилось сегодня, он пытался представить те неожиданности, которые будут грозить завтра, при новом протаскивании трубы. Лицо Зайцева в синих пятнах озноба, озабоченное, с немеркнущим сиянием мечты в глазах, стояло перед ним. И Балуеву казалось, что он сейчас не так одинок, каким чувствовал себя, когда бродил по истерзанной тракторными гусеницами рабочей площадке.
И он думал, как всегда старался думать в тяжелые мгновения своей жизни, и уговаривал себя, обращаясь только к себе: «Когда человек остается один, он не должен испытывать отчаяния полного одиночества. Что значит один? Это я такой, какой сейчас есть, и такой, каким должен быть. И всегда, всю жизнь эти двое существуют во мне. И когда второй, каким должен быть я, побеждает, я становлюсь лучше, чем был… Нужно и теперь перебороть себя самим же собой; таким я хочу быть, каким и должен быть человек и каким я тоже иногда умею быть».
Балуев не мог точно вспомнить, когда он пришел к подобным раздумьям.
Может, похожие мысли появились у него сразу после того, как однажды на фронте он понял, что сегодня его не убили, и завтра, возможно, тоже не убьют, и он останется жить, хотя и не ощущал себя, а только мучительно осязал нестерпимо оранжевое пламя разрыва, удар такой силы, от которого его словно расплющило и тело стало одной сплошной болью.
Боль могла убить, но она же и спасла Балуева. Спасла, потому что его, ползущего, стонущего, успел приметить и втащить в окоп кто–то из бойцов, и почти тотчас же над его головой, скрежеща, прополз гибкий, суставчатый потолок из натертых до блеска гусениц танка.
В ненависти на заполнившую все его существо боль Балуев оттолкнул кого–то, выполз из окопа и, лежа на боку, опираясь на локоть, бросил вслед танку гранату. Блеск взрыва безболезнен, но взрывная волна толкнула его, и в это–то краткое мгновение огненной вспышки гранаты Балуев успел подумать, что сейчас он лучше, чем был, когда полз и визжал от боли. И тут он снова с облегчением утратил себя и очнулся только от тошнотного, мерного покачивания носилок,
И вот, наверное, тогда–то он ясно понял, что его не убьют ни сегодня, ни завтра, что он живой. Осторожно, словно прислушиваясь к боли, которая не была теперь такой нестерпимой и, словно устав, отдыхала, но, отдохнув, снова могла стать чудовищно сильной, он думал: «Человек никогда не бывает один. В нем всегда противоборствуют двое: один — лучше, другой — хуже, и тот, который лучше, никогда не бывает одинок, он в тебе как бы представитель всех людей, которых ты знал и любил, и этот, второй, лучший, повелевает тобой».
А может быть, Балуев стал думать об этом в самом начале боя, когда «юнкерсы» волна за волной роняли бомбы, и от разрывов вздрагивали глиняные стены окопа, на дне которого он сидел, и каждая бомба, казалось, падала на колени, меж которыми он судорожно сжимал автомат. Да, конечно, он начал думать так именно тогда, но с отчетливой ясностью мысль эта пришла потом. Она не успела прийти сразу, потому что боец Егоров вдруг крикнул:
— Ух, мать честная! — и лег на Балуева грузным телом, и тяжкий удар бомбы будто выгнул дно окопа. Когда же все это прошло, Егоров продолжал лежать на нем и становился с каждым мгновением тяжелее и тяжелее. Балуев с трудом вылез из–под Егорова, и тот твердо стукнулся о дно окопа лицом, и Балуев увидел спину Егорова, будто иссеченную топором: осколки так туго и глубоко вошли в тело Егорова, что крови почти не было.
Первое, что Балуев почувствовал, — это счастье. Остался жив! А Егоров? Могло быть и наоборот. И его охватила блаженная слабость. Потом Балуев вылез из окопа, от горячих дуновений разрывов несколько раз падал, вставал и не торопясь шел молча, но слышал свой сиплый, страшный голос, призывающий солдат в атаку.
Он неторопливо шел по колеблющейся, извергающей осколки земле и молил невесть кого, чтобы его не убило до тех пор, пока он не рассчитается за Егорова сам…
Увидев, что бегущие бойцы опережают его, он сердито побежал, злясь на то, что другие могут оказаться впереди, и не он, а другие рассчитаются за Егорова.
А кто ему был Егоров? Никто! Боец, который потеснился в своем окопчике и с лукавой скаредностью выкурил все офицерские папиросы Балуева. И совестясь, что курит чужие, рассказывал о себе с насмешливой, веселой откровенностью: воюет он с умом, осторожно, потому что троих ребят без отца оставлять не имеет права. И никаким орденом его не сманить на лишнее геройство, — вот и окоп вырыл поглубже, чем другие… Говорил он о себе, усмехаясь, будто призывая посмеяться и других.
Читать дальше


![Вадим Кожевников - Это сильнее всего [Рассказы]](/books/24302/vadim-kozhevnikov-eto-silnee-vsego-rasskazy-thumb.webp)
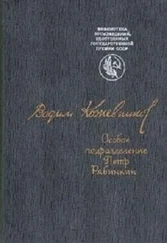

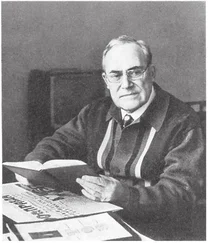

![Вадим Кожевников - Солдатский подвиг. 1918-1968 [Рассказы о Советской армии]](/books/403312/vadim-kozhevnikov-soldatskij-podvig-1918-thumb.webp)