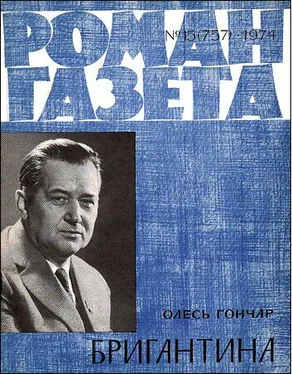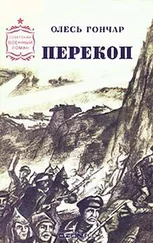— У такой, как его мама, и хлебное дерево вырастет, — с уважением говорит Ганна Остаповна. — А ты вот, сын ее, тот, кому предстоит в жизни опорой матери стать, защитой…
— Подождите, — говорит Порфир и, тяжко вздохнув, делает отчаянную попытку вытащить из себя: — Мені тринадцятий минало, я пас ягнята за селом… Гм… ы… э…
— Забуксовало, — слышится с задних парт. — Осечка.
Кульбака озирается, доискивается, кто же это задирает? Кажется, Быстрицкий? Дотянуться бы до него через парту да…
— Дальше, дальше читай.
— Они мешают.
— Не мешайте ему. Ну, смелее…
— Я пас ягнята… ы… э… э…
И, видно, заело, заклинило уже окончательно.
— Разбежались ягнята, нет их, — опять подбрасывает кто-то, и все разражаются смехом, а охотнее всех бросается в водоворот веселья сам Порфир, его так и раскачивает от приступов хохота.
— Чего тебе-то смеяться? — В голосе Ганны Остаповны и сдержанная симпатия, и удивление, и строгость. — Пусть уж те, кто задание выполнил, им можно и посмеяться, а тебе… Беда нам с тобою, Порфир. Парень ты боевой, и ссориться с тобой не хотелось бы, однако должна предостеречь: лодыри у нас не в почете. В нашем коллективе слово «лодырь» считается тягчайшим оскорблением. Одного в прошлом году обозвали лодырем, так он даже расплакался, к прокурорше побежал жаловаться, когда та приехала школу инспектировать…
— Я не побегу.
— Тебя никто и не оскорбил. Скорее ты меня, учительницу, оскорбил, что вот так небрежно к домашнему заданию отнесся. У нас работать приучайся с первых же дней. Ладно бы не мог, а то ведь можешь, сомнений в этом нет. А теперь из-за тебя всему классу придется снизить оценки…
— Хорошо, на завтра выучу.
— Вот это другой разговор. Это — слово мужчины. — И уже ко всем: — Будете добросовестными, дети, так и ссориться нам не придется, дружный у нас с вами сложится коллектив… Летом Марыся Павловна выведет вас в широкий свет, спортивные игры ждут вас на воде и на суше, конечно, это после того, как хорошенько потрудитесь в совхозе на моркови да на черешне… — Слова старой учительницы распаляют детское воображение. Мальчишкам хоть бы и сейчас броситься на прополку моркови, взобраться на черешни, откуда тебе аж смеются румянощекие «жабуле» да «ранние степные»… — А на то, что заработаете, школа приобретет вам осенью, к Октябрьским праздникам, форму морскую, на демонстрацию выйдете в бескозырках, точно юнги дальнего плавания… Вы же об этом мечтаете? Значит, главное — старательным быть, с юных лет приучать себя к честной трудовой жизни…
И как-то так получалось у Ганны Остаповны, что будто бы и не морализирует она, а просто дает этим стриженым свое материнское наставление, советует, как им вести себя в будущей жизни. «Она их любит, душой любит этих стриженых маленьких людей! — отмечала про себя Марыся Павловна, наблюдая с последней парты за уроком коллеги. — Для коварных, лукавых, бессердечных, для недобрых и добрых — для всех находится в ее душе запас материнского тепла… И, верно, ни опыт, ни знания, никакие педагогики не спасут, если не будет этого, если не почувствуют мальчишки сами, что относишься к ним справедливо, с надеждой, с любовью!..»
«Но они же несносны!» — слышит Марыся возражения от самой себя.
Да, несносны, но ведь ты… ты педагог, ты старшая! Каждый из этих детей должен ждать встречи с тобой, учительницей, как радостного события, как праздника своей души. Только входишь, они уже — все на тебя: что на лице? Какая ты? Что им несешь? И ты не должна их разочаровать. Приветливостью, теплом доверия должна согреть каждого. Должна одолеть его замкнутость и озлобленность, если перед тобой злой волчонок… Ганна Остаповна умеет, почему же тебе не суметь?
О Кульбаке она вечером запишет в дневник: «Возбудимый, почти невозможно заставить его сидеть на уроке тихо. Реагирует на все быстро, молниеносно. Ироничен, любит развлечься, даже за счет учителя. Диапазон мыслей довольно широк: от Хиросимы до Камышанки».
На переменку они вылетают, как из пращи, в коридоре Марысю Павловну едва с ног не сбивают, хоть она и гимнастка. Для них она словно бы и не наставница, страха перед нею нет, и впрямь будто практикантка, с которой можно быть запанибрата. Мчится вот навстречу Кульбака, совсем ошалелый от радости, что вырвался на волю. Увидев учительницу, напружинивается, как хищный зверек, растопыренными пальцами в глаза нацеливается с разгона:
— Бегу! Лечу! Целюсь в левый глаз!
Читать дальше