– Тебе, сынок, письмо откель-то.
– Мне? – удивился тот.
– Тебе. Иди читай!
Засветив в хате огонь, Гаврила острым, нащупывающим взглядом следил за обрадованным лицом Петра, читавшего письмо. Не вытерпел, спросил:
– Откель оно пришло?
– С Урала.
– От кого прописано? – полюбопытствовала старуха.
– От товарищей с завода.
Гаврила насторожился.
– В счет чего же пишут?
У Петра, темнея, померкли глаза, ответил нехотя:
– Зовут на завод… Собираются его пускать. С семнадцатого года стоял.
– Как же?.. Стало быть, поедешь? – глухо спросил Гаврила.
– Не знаю…
* * *
Угловато осунулся и пожелтел Петро. По ночам слышал Гаврила, как вздыхал он и ворочался на кровати. Понял, после долгого раздумья, что не жить Петру в станице, не лохматить плугом степную целинную чернозёмь. Завод, вскормивший Петра, рано или поздно, а отымет его, и снова черной чередой заковыляют безрадостные, одичалые дни. По кирпичику разметал бы Гаврила ненавистный завод и место с землею сровнял бы, чтобы росла на нем крапива да лопушился бурьян!..
На третий день на покосе, когда сошлись у стана напиться, заговорил Петро:
– Не могу, отец, оставаться! Поеду на завод… Тянет, душу мутит…
– Аль плохо живется?..
– Не то… Завод свой, когда шел Колчак, мы защищали полторы недели, девятерых колчаковцы повесили, как только заняли поселок, а теперь рабочие, какие пришли из армии, снова поднимают завод на ноги… Смертно голодают сами и семьи ихние, а работают… Как же я могу жить тут? А совесть?..
– Чем пособишь-то? Рукой ить неправ.
– Чудно́ говоришь, отец! Там каждой рукой дорожат!
– Не держу. Поезжай!.. – бодрясь, ответил Гаврила. – Старуху обмани… скажи, что возвернешься… Поживу, мол, и вернусь… а то затоскует, пропадет… один ить ты у нас был…
И, цепляясь за последнюю надежду, шепотом, дыша порывисто и хрипло:
– А может, в самом деле возвернешься? А? Неужли не пожалеешь нашу старость, а?..
* * *
Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, из-под колес, шурша, осыпался рыхлый мел. Дорога, излучисто скользившая вдоль Дона, возле часовенки заворачивала влево. От поворота видны церкви окружной станицы и зеленое затейливое кружево садов.
Гаврила всю дорогу говорил без умолку. Пытался улыбаться.
– На этом месте года три назад девки в Дону потопли. Оттого и часовенка. – Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. – Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету, гора обвалилась. Отсель до станицы с версту, помаленечку дойдешь.
Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с арбы. С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки.
– Прощай, родимый!.. Солнышко ясное смеркнется без тебя у нас… – И, кривя изуродованное болью, мокрое от слез лицо, резко, до крика повысил голос: – Подорожники не забыл, сынок?.. Старуха пекла тебе… Не забыл?.. Ну, прощай!.. Прощай, сынушка!..
Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги.
– Ворочайся!.. – цепляясь за арбу, кричал Гаврила.
«Не вернется!..» – рыдало в груди невыплаканное слово.
В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова, в последний раз махнул Петро картузом, и на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль.
1926
Музга – озерко, болотце. – Здесь и далее примеч. автора.
Тавричанами называли на Дону украинцев, чьи предки были по приказу Екатерины II переселены из южных, соседних с Крымом (Таврией) мест.
Сполох – здесь: тревога.
Что не видно – очень скоро, вот-вот.
Лазоревым цветком на Дону называют степной тюльпан.
Чапиги – поручни у плуга.
Виё – дышло в бычачьей запряжке.
Атаманец – казак, служивший в лейб-гвардии Атаманском полку.
Полчанин – сослуживец по полку.
Чакуша – пастуший костыль.
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу





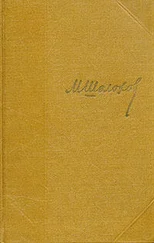
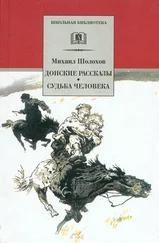
![Михаил Алексеев - Да поможет человек [Повести, рассказы и очерки]](/books/413480/mihail-alekseev-da-pomozhet-chelovek-povesti-rassk-thumb.webp)


