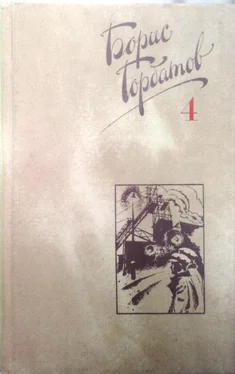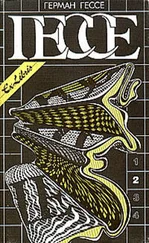Хоронили тут же, неподалеку от шахты, в Сухой балке. И отпевать не нужно: коногона уже при жизни отпели.
«Ох, и окаянное ж это было время, я должность эта была самая что ни на есть окаянная, отчаянная. Нынешние коногоны об атом только понаслышке я знают».
А теперь уходят кони из шахты. Наконец, уходят. В последний раз сегодня простучат лошадиные копыта под сводами квершлага, в последний раз донесется из тьмы пронзительный коногонский свист и — стихнет. Навсегда. Идет тысяча девятьсот сороковой год. И в бывшей конюшне на «Крутой Марии» будет депо электровозов. «А важное выйдет депо, богатое!» — вдруг подумал Прокоп Максимович Лесняк.
Уходят кони из шахты... Навсегда уходят. И что-то неощутимое, невидимое, но живое, сущее и страшное уходят вместе с ними. Навсегда. На веки веков.
— Удивительно, — сказал Прокоп Максимович, ероша рукой верстку на костлявой спине Чайки. — Нет, прямо удивления достойно: как же это ты Чайку свою сберег, Бобыль, а?..
Бубнов только застенчиво потупился.
— Ведь она небось лет десять в упряжке ходит? — снова спросил Лесняк.
— Ровно десять.
— Вот я и говорю: удивительно! — И старик с любопытством посмотрел на коногона: ему вспомнилась нашумевшая когда-то на шахте история Чайки-Сатаны. В той истории было три главных действующих лица: сама Чайка, коногон Савка Кугут да Бобыль.
Бобылем Никифора прозвали в первый же день его появления на «Крутой Марии», лет пятнадцать тому назад. Вот как это случилось. «Ты кто? — строго спросил десятник Сиромаха, гроза новичков, заприметив на наряде рыжую домотканую свитку и лапти Никифора. — Ты кто-о?». Бубнов растерялся. «Я-то? — пробормотал он. — А я... я бобыль». Это было его официальное деревенское звание, он и сказал его. С тех пор иначе как Бобылем его уж и не звали.
Он и вправду был бобыль, может быть самый горький, самый сирый на всей Брянщине. У него никогда не было ни кола, ни двора, ни семьи, ни хаты. Всю молодость свою прожил он в людях, в солдатах, в батраках, всегда подле чужих коней — хозяйских, казенных или обозных. Ничего так не желал Бобыль, как иметь своего коня. Будет конь, мечтал он, будет и хата, и хозяйство, и жена-молодуха, и дети. За безлошадного кто же пойдет? Чтоб добыть себе коня, он и поехал на шахты: земляк, бывалый человек, присоветовал.
Но на шахте Бобыля определили не в забой, а в конюшню, конюхом: тут много не заработаешь. Бубнов был тихий, боязливый, законопослушный человек, он не возроптал. Что ж, знать такая судьба — вечно ходить за чужими конями. Все-таки за зиму он справил себе хороший пиджак и сапоги, но шахту не полюбил и тосковал под землею. Весной он внезапно, никому слова не сказав, ушел с «Крутой Марии», а осенью, сконфуженный и еще более отощавший, вернулся. Мечта о собственном коне не покидала его.
Так и повелось: с теплым ветром уходил с шахты, с первым снегом возвращался.
На шахте Бобыля узнали и даже полюбили за голубиную кротость его души, за смирный характер, а всего более за то, что он бобыль, человек одинокий и несчастливый. Каждую осень, когда после отлучки повалился он на шахте, загорелый, тощий, беспокойный, весь пропахший ветром, лесом и лошадиным потом, шахтеры спрашивали его шутя: «Ну как. Бобыль, женился?». Он научился отшучиваться: «Да нет! Все невесты достойной не найду, одни щербатые попадаются», — «Эк, ты, Бобыль, Бобыль!».
Так и текла жизнь Никифора Бубнова между деревней и шахтой, пока не явилась Чайка.
Чайку привезли на «Крутую Марию» в девятьсот тридцатом году. Тогда это была резвая, веселая трехлетка, такая веселая, что все, кто тут был при спуске в шахту, невольно заулыбались, глядя на нее. Она охотно пошла в клеть, а войдя, радостно заржала. «С солнышком прощается!» — жалостливо примолвила рукоятчица, задвигая деревянные щиты, специально припасенные для спуска лошадей. Но Чайка и не подозревала даже, что надолго, может быть навсегда, прощается с дневным светом. Она простодушно ржала, потому что ей было всего три года, ей было весело, хотелось скакать и прыгать, задравши хвост, а никакой беды себе она и не чаяла.
Темень в шахте сначала только удивила ее, не испугала. Она знала, что бывает на свете ночь и терпеливо ждала утра. Но ночь тянулась слишком долго, утро не приходило, и Чайка — бог весть, как ее звали тогда — вдруг встревожилась, заметалась, затосковала. Дикими, обезумевшими глазами глядела она на людей, загнавших ее в это мрачное подземелье. Она не понимала, зачем они это сделали. Вытянув свою длинную, журавлиную шею, она беспрестанно ржала, нет, даже не ржала — вопила, и невозможно было спокойно слушать эти вопли — мольбы о воле и солнце...
Читать дальше