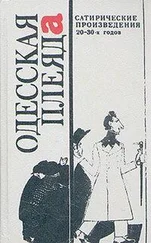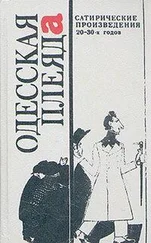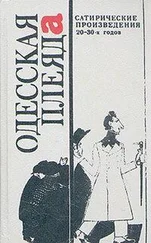– А… – сказал Гаврик.
Матросы толкнули генерала к стене здания возле водосточной трубы с одним вырванным, запачканным известью костылем.
Все это происходило с чудовищной быстротой и неотвратимостью.
Гаврик поднял наган.
– Погоди, еще не стреляй, – сказал Синичкин, легким повелительным движением остановил Гаврика.
Матросы отошли в сторону.
– Генерал Заря-Заряницкий, – сказал Синичкин сурово и поправил на носу свои маленькие железные очки. – Вы контрреволюционер и предатель! Мы таких людей караем! Не взыщите. Именем революции!
Заря-Заряницкий, по-видимому, хотел что-то сказать, но Гаврик выстрелил, и он, раскинув шинель на красной генеральской подкладке, упал затылком на цинковую водосточную трубу, и его грубое, злое, испуганное лицо с серебряным ежиком волос над низким лбом тотчас стало равнодушно-отчужденным.
Теперь это мертвое, нечеловечески-неподвижное, белое лицо все время стояло перед глазами Гаврика, и он ненавидел Заря-Заряницкого вдвойне, как врага-контрреволюционера и как человека-предателя, заставившего его, Гаврика, запачкать свои руки кровью и взять на душу убийство.
– Ты уже здесь, вояка! – сказал Петя, входя в зал первого класса. – Ну, поздравляю с победой. А где же Марина?
Он привык, что Гаврик и Марина всегда были вместе.
– Разве ты ничего не знаешь? – спросил Гаврик со странной, остановившейся улыбкой.
– Нет. А что?
Гаврик продолжал смотреть на Петю воспаленными глазами с золотистыми ресницами. Петя почувствовал, что холодеет.
– Нету больше Марины, – сказал наконец Гаврик с усилием и жалко улыбнулся.
Он механически быстро замотал и заправил обмотку, встал на ноги и положил Пете на плечо обмороженную руку.
– Ты шутишь, – прошептал Петя. Это было выше его понимания. – Когда? – спросил он.
– Позавчера, на углу Пушкинской и Троицкой, – ответил Гаврик, продолжая все так же грустно, просительно улыбаться.
– Нет! – воскликнул Петя, отступая на шаг.
– Да, брат, – сказал Гаврик, глядя в глаза Пете слезящимися, красными глазами.
Они сели рядом на прилавок газетного киоска.
Трое суток назад, ночью, в день победы, на этом самом месте сидел Терентий и грозил Марине пальцем: "Гляди! Ты бы лучше дома сидела. В твоем положении бегать по городу не слишком полезно".
С того времени мало что изменилось в зале первого класса. Те же искусственные пальмы с пыльными войлочными стволами, буфет, похожий на орган, громадный самовар с медалями, дубовая мебель. Лишь в одном месте отвалился кусок лепного потолка, и паркетный пол был по всем направлениям испятнан известковыми следами солдатских ног, да кое-где были выбиты стекла, так что по всему залу летели сквозняки.
– Ты знаешь, – сказал Гаврик, – у нас с Мариной готовился хлопчик, Марат.
Петя снял фуражку с пятном от кокарды и вертел ее в руках, не зная, что сказать. Слова были бессильны. Он боялся раскрыть рот, чтобы не зарыдать.
– Ты ее когда-то любил, верно? – спросил Гаврик, пристально рассматривая белые следы на полу.
– Любил, – ответил Петя.
Теперь ему казалось, что он любил всю жизнь только ее одну.
Он сказал о ней, как о мертвой, но все же никак не мог поверить, что ее уже действительно больше не существует на свете. К этой мысли еще надо было привыкнуть.
Петя ничего не чувствовал, кроме странной душевной опустошенности. Он не знал, что сказать еще Гаврику и следует ли вообще что-нибудь говорить.
Они долго молчали.
Вдруг Гаврик очнулся, заторопился, соскочил на пол и своим обычным, решительным, коротким движением подтянул пояс.
– Я пошел, – резко сказал он.
– Куда?
– В Валиховский переулок.
– А там… что?
Гаврик с удивлением посмотрел на Петю.
– Там она.
– Где?
– В университетской клинике. В морге, – сказал он отчетливо и отвернулся.
– Я с тобой.
– Нет!
Он закинул за спину винтовку и, не оборачиваясь, пошел к выходу.
Петя смотрел ему вслед, на его подпрыгивающую винтовку и никак не мог до конца понять всего, что случилось. Это была первая смерть близкого человека, друга, сверстника. Петя попытался представить себе Марину такой, какой он видел ее в последний раз, но никак не мог. Она все время ускользала. И еще должен был быть Марат. Этого Петя совсем никак не мог вообразить. Она все время представлялась девочкой, подростком, с черным шелковым бантом в каштановых волосах, в коротком летнем пальтишке, с репейником в чулках. Он вспомнил, как она спала в катакомбах на ящике от "американки", положив голову на колени матери и поджав ноги в маленьких пыльных башмачках на пуговицах, из которых один просил каши.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу