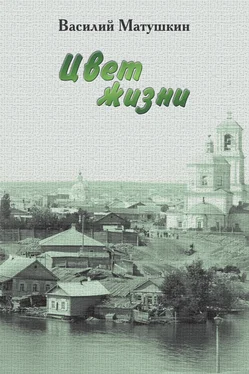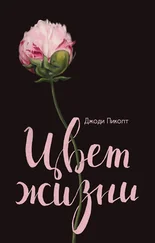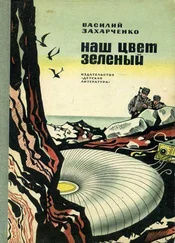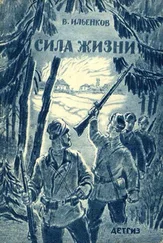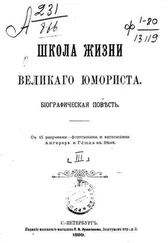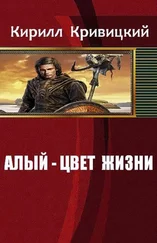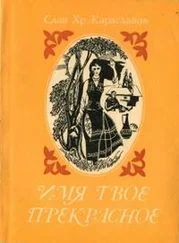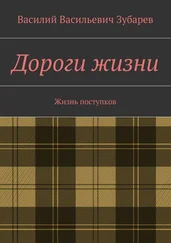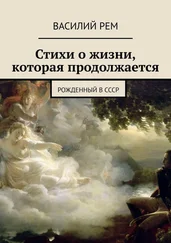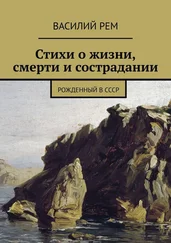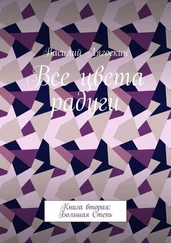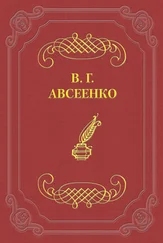Однажды утром нашла в почтовом ящике письмо с печатью вместо обратного адреса. Внимательно, до буковки, прочла отпечаток: «Союз советских писателей. Правление. Москва, ул. Воровского, д. 52. Тел. № Д 2-14-42.» Торопливо вскрыла сероватый прямоугольник, вынула два листка. В одном, поменьше, сообщалось:
Уважаемый тов. Матушкин!
Пересылаю Вам рецензию т. Войтинской. Она заведует критическим отделом журнала «Октябрь». С её мнением мы согласны.
О принятии дальнейших мер – поставим Вас в известность.
Референт ССП СССР Саблин. 21 сентября 1937 г.
К сообщению прилагалась рецензия. Вот она, почти целиком:
…Матушкин написал сырую книгу «Тарас Квитко». В ней очень большое внимание уделено уголовным приключениям Тараса. Обо всём остальном говорится мимоходом. Положение рабочих, жизнь ребёнка в дореволюционной рабочей семье описывается очень серо. Совершенно непонятно, почему Тарас в тюрьме становится революционером, почему главными героями повести являются уголовники. В книге нет запоминающегося героя или волнующей ситуации. В таком виде рукопись нельзя было отдавать в печать.
Редактор И. Кравченко должен был заставить автора ещё поработать над повестью. Вместо этого Сталинградское издательство выпускает недоработанную книгу, а некий М. Фейгин вместо помощи автору занялся его политическим шельмованием. Он, попутно занимаясь домыслами, почему-то сравнил «Тараса Квитко» с романом Островского и объявил, что Матушкин написал вредную книгу. Рецензия Фейгина написана плохо, хотя это не является поводом для защиты книги Матушкина.
О. Войтинская
Замечу, попутно и вкратце, как эта строго-отрывистая рецензия не походила на товарищеское письмо Виктора Буторина, которое я приводил выше. Ни слова о языке, о пейзажах, об образности. Главное – идеологическая составляющая. Впрочем, Войтинская и рассматривала повесть только под этим, очень нужным в тот момент для Матушкина углом. И сделала главное: дала отпор доносу Фейгина, чем и спасла провинциального автора от вполне возможной расправы, пусть тот и уехал, как казалось, далеко от сталинградского чекистского дома, расположенного тогда над Волгой, в районе, где ныне Музей-панорама «Сталинградская битва».
Нина в тот же день написала два письма, одно – в Москву референту Саблину, где указала новый адрес мужа, другое – Василию в Верхний Баскунчак. Среди «принятия дальнейших мер», о котором писал Саблин, было и то самое «резюме»: вскоре в сталинградской печати появилось сообщение, что «дискуссию» по новой книге Матушкина можно считать законченной. И не в пользу Фейгина. Клеймо с повести было снято. Через неделю в Малую Францию пришло письмо и денежный перевод от Василия. Он настоятельно советовал жене ехать в Камышин, ибо ей там при матери будет спокойней жить и рожать, чем в глухом Баскунчаке. Написал также, что он решил, согласно договору, доработать этот учебный год. Мол, на Новый год иль после родов твоих примчусь, конечно, на пару дней, но доработать надо обязательно. Ибо одно дело – расторгать договор нельзя, что о нём, писателе, люди и дети подумают? А второе – учить ребятишек некому…
…О войне он не любил рассказывать. Не помню, чтобы, допустим, уже в шестидесятых-семидесятых, когда на книжные прилавки и экраны буквально хлынул «военный» поток, он охотно комментировал новые произведения о войне. В том числе доселе непривычный, скажем так, взгляд на неё в книгах Константина Воробьева, Григория Бакланова, Евгения Носова. Особо не трогали его и широко известные эпопеи Константина Симонова или Александра Чаковского. Даже когда у него самого в шестьдесят шестом в журнале «Октябрь» впервые была напечатана повесть тоже о военном времени и, казалось бы, пришла пора и ему «разговориться» хотя бы на семейном уровне, – нет, не было такого. Вытянуть из него хоть что-то стоило большого труда. Иногда, правда, он вдруг сам неожиданно вспоминал какие-то эпизоды.
Собирается, к примеру, дочка блины печь, возится с мукой, шурудит-взбивает тесто в чашке. Он глядит-глядит и…
– Нам… месяца полтора… зимой уж… в декабре… тоже муку давали… Ржаную только… В пакетиках… Индивидуально в руки… Ешь как хошь. Котелков и тех у каждого не было, в банках или ещё как наболтаем и варим… Тут костерок, там… Большие-то боже упаси разводить… Прилетит снаряд иль мина на закуску… Да и маленькие… Я, к примеру, развожу, а кто-нибудь прикрывает костерок, дым размахивает…
– Да что ж, никакой кухни не было, что ли?
Читать дальше