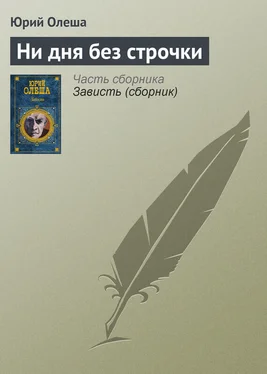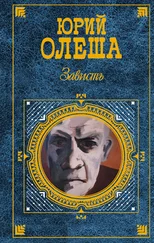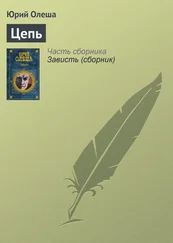Не закончим сегодняшнюю запись на этом мрачном слове. Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что. Однажды, когда я возвращался по улицам темной, блокированной английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в пулеметных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали, как называется… И я помню, что он крикнул мне, спрашивая:
– Братишка!
Я был братишкой матросов! Как только не обращались ко мне за жизнь – даже «маэстро»! «Браво, маэстро!» – кричал мне болгарин Пантелеев, концертмейстер, на каком-то вечере поэтов в Одессе. Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече:
– Братишка!
Не стал читать страницу из «Дневника» Делакруа, представляющую собой статью об искусстве, чтобы не прочесть ее кое-как, на ходу… Все меньше остается этого «Дневника», автору уже около шестидесяти лет; все, что он пишет сейчас, великолепно по уму и тонкости. Иногда можно обвинить его в желании по-писательски подвести под концовку – показать себя писателем… Ну что ж, и это у него получается превосходно! Так, восторгаясь одной из картин Рафаэля и чувствуя вместе с тем ее несовершенство, он пишет, что «Рафаэль грациозен, даже прихрамывая». Конечно, это явная «фраза», «концовка», но как хорошо!
Был у Казакевича, который всегда на высоте ума, образования, темперамента. Мог бы он написать хорошую пьесу? Именно этот вид литературы – даже странно чудо создания события называть литературой! – является испытанием строгости и одновременно полета таланта, чувства формы и всего особенного и удивительного, что составляет талант.
Когда сочинял свою музыку Моцарт, весь мир был совершенно другим, чем в наши дни. Он сочинял при свечах – может быть, при одной толстой, которую нетрудно вообразить со стелющимся, когда открывают дверь, языком; на нем был шелковый зеленый кафтан; он был в парике с буклями и с косой, спрятанной в черный шелк; он сидел за клавесином, как будто сделанным из шоколада; на улице не было электрического света, горели… мы даже не сразу можем представить себе, что горело! Факелы? Фонари с ворванью?
Короче, это было еще до Наполеона. Нет, еще до Великой французской революции, когда редко кому приходило в голову, что существование королей – удивительно. Совсем, совсем иной мир!
И вот то, что сочинил Моцарт, мы в нашем ином мире, который отличается от того, как старик от ребенка, помним, повторяем, поем, передаем друг другу… Беремся за рычаги наших машин, включаем ток, чтобы золотая сеточка, которую создавал его мозг, никак не исчезла, чтобы она существовала всегда и была передана в следующий иной мир.
Он дергался в детстве, был, как теперь говорят, припадочный. На портретах он красив, скорее он был носат, да и маленького роста. Вероятно, наиболее выразительной была его внешность, когда он был вундеркиндом: маленький, носатый, в конвульсиях. Странно представить себе, что в его жизни были и кабачки, и попойки, и легкомысленные девушки, и драки… В Праге, на премьере «Дон-Жуана», он предложил Дон-Жуану в последнем акте перед приходом статуи спеть куплеты Керубино из «Свадьбы», чтобы рассмешить пражцев, любивших «Свадьбу». Я не читал писем Моцарта, сохранились ли они?
Прослушиваю все время Девятую Бетховена.
Как мог Лев нападать на это произведение – Лев, с его любовью к героическому, с его небом над умирающим Андреем? Это ведь то же самое. Вероятно, от зависти – вернее, не от зависти, а от требования, чтобы не было каких-либо других видений мира, кроме его…
Это симфония об истории мира на данном, как говорится, этапе. Там литавры и барабан стреляют, как пушка именно тех времен – короткая, с двойным звуком выстрела пушка, одну из которых потом полюбил Бонапарт. Расстрел роялистов на паперти Сен-Роха. Может быть, все это есть в Девятой. Во всяком случае, это история. Зачем бы тогда эти пушки? Это ж не иллюстрация.
Вместо огромной толпы музыкантов, старых, обсыпанных пеплом в обвислых жилетах людей, вместо груды нотных тетрадей, вместо целого леса контрабасов, целой бури смычков и еще многого и многого – хотя бы грохота пюпитров, кашля в зале и писка настраиваемых инструментов, – вместо всего этого у вас в руках элегантно посвистывающая при прикосновении к ней пластинка, черная, с улетающим с нее каждую секунду венком блеска. Результат тот же: та же бетховенская симфония, истинное реальное воплощение которой в конце концов неизвестно: это и вышеописанный хаос оркестра, и пластинка, и рояль самого Бетховена, а еще перед этим просто ветер или звук кукушки.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу