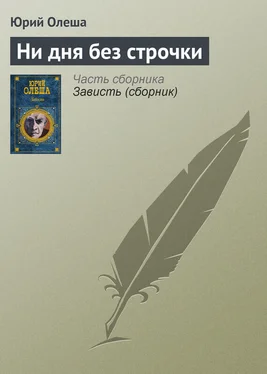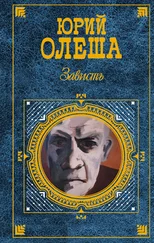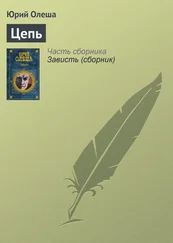Как некоторые высокие достижения техники или медицины определяются словом «чудо», так могут быть определены тем же словом и высшие достижения литературы; таким образом, можем мы говорить и о чудесах литературы.
К чудесам литературы относится, мне кажется, то описание неба над головой идущих ночью в ущелье солдат, которое есть в одном из кавказских рассказов Толстого. Там сказано, что та узкая извилистая полоска ночного неба, полная звезд, которую видели над собой шедшие между двух отвесных скал ущелья солдаты, была похожа на реку. Она текла над головами солдат как река, эта темная мерцавшая бесконечностью звезд полоска.
Стоило бы подобрать сотню таких чудес. Зачем? Чтобы показать людям, как умели думать и видеть другие люди. Зачем это показывать? Чтобы и те, кто не умеют так думать и видеть, все же уважали себя в эту минуту, понимая, что поскольку они тоже люди, то они способны на многое.
Начальника станции, в комнате и на постели которого умер Лев Толстой, звали Озолин. Он после того, что случилось, стал толстовцем, потом застрелился.
Какая поразительная судьба! Представьте себе, вы спокойно живете в своем доме, в кругу семьи, заняты своим делом, не готовитесь ни к каким особенным событиям, и вдруг в один прекрасный день к вам ни с того ни с сего входит Лев Толстой, с палкой, в армяке, входит автор «Войны и мира», ложится на вашу кровать и через несколько дней умирает на ней. Есть от чего сбиться с пути и застрелиться.
Одно из поразительных, если можно так выразиться, обстоятельств «Войны и мира» – это то, что Пьер Безухов, никому не открывавший своей тайны (любовь к Наташе), открывает эту тайну пьяному и пошлому оккупанту в горящей Москве… Именно так: они сидят в чужом доме, пьют вино, и Пьер рассказывает этому майору Рамбалю о своей любви. Майор, как ни пошл, ни пьян, как ни груб (в данном случае еще и завоеватель), относится с пониманием к тому, что говорит Пьер, понимает, что Пьер говорит именно о чистой любви.
– Да-да, – восклицает он, – ле нюаж! Облака!
Если бы я делал сценарий для фильма «Война и мир», я начал бы с этой сцены: Рамбаль и Пьер в чужом доме, – начал бы с этого признания Пьера. Это сократило бы роман почти вдвое. Эти «нюаж» и были бы монтажным поводом для краткого изображения того, что было до 1812 года, – изображения Наташи и всего, что связано с ней.
Странно, что существует на виду, так сказать, у всех стиль Толстого с его нагромождением соподчиненных придаточных предложений (вытекающие из одного «что» несколько других «что», из одного «который» несколько следующих «которых»). По существу говоря, единственно встречающийся в русской литературе по свободе и своеобразной неправильности стиль. И до сих пор одновременно с требованием, направляемым к молодым писателям, писать так называемо правильно, никто не дает объяснений, почему же Толстой пишет неправильно? Необходимо было бы (и странно, что до сих пор этого не сделали) составить диссертацию о своеобразной «неграмотности Толстого». Кто-то заметил, что Толстой знал о нарушениях им синтаксических правил (то и дело он говорит о том, что у него «дурной слог»), но вовсе не ставил себе в необходимость избегать этих нарушений – он писал так, сказано в этом замечании, как будто до него никто не писал, как будто он пишет впервые. Таким образом, и стиль Толстого есть проявление его бунта против каких бы то ни было норм и установлений.
Согласие на синтаксические неточности дало ему возможность легче справляться с трудностями изложения мыслей и описания вещей или обстоятельств; другие писатели эпохи Толстого были чрезвычайно связаны запрещением, например, допускать соподчиненные «что» или «который»; оставаясь в рамках синтаксиса, они искали других путей для составления фразы, и тем значительней их работа, что они эти пути находили. Впрочем, так ли уж важен синтаксис, когда пишет Толстой. Только он, кстати говоря, и писал этим своим толстовским, неправильным языком, и никто этой манеры не позволил себе унаследовать.
Что он в конце концов проповедует, когда поет гимн косьбе? Я должен косить. Почему? Я должен изобретать анализ бесконечно малых, сочинять музыку Бетховена, а не косить.
Он проповедует не что иное, как гимнастику.
Зачем я все это пишу? Чистая графомания! Он рассказывал о «Сиде», в котором мне нравится особенно, что в сражении Родриго взял в плен «двух царей». Другой сказал бы «трех». Тут строгость вкуса. Это не цари, конечно, – вероятно, шейхи или в этом роде, но по-французски и для него, Родриго, – цари. И хорошо, что цари, – великолепней, четче, точнее!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу