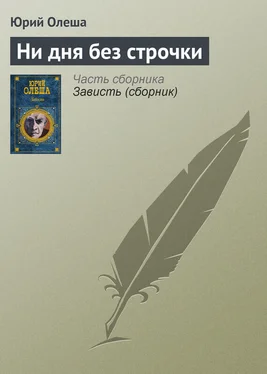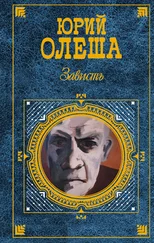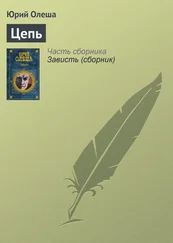Наука говорит, что в раннем младенчестве мы видим мир опрокинутым. Если это так, то, значит, и я видел мир опрокинутым. Этой картины опрокинутого мира я не помню, и, следовательно, первые впечатления, полученные мною от мира, навсегда для меня исчезли. Приходится поэтому довольствоваться более поздними, считая их первыми.
Я ем арбуз под столом, причем я в платье девочки. Красные куски арбуза… Вот что встает передо мной как наиболее раннее воспоминание. До того – темнота, ни одной краски.
Первое, что я помню, – это меня несут, взяв из ванны. Меня несет женщина со старыми, вяло свисающими локонами… Кто она? Тетя? Как могу я помнить, какие у нее локоны? Как я могу знать, что они старые? Да еще вяло свисают? Что-то я придумываю сейчас, на ходу. Но почему же я придумываю именно это, а не что-нибудь другое? Почему эти картины рождаются одновременно? Какая-то причина этому есть! Очевидно, какой-то частью сознания я схватил и ту картину, которая кажется теперь придуманной!
Я родился в 1899 году в городе Елисаветграде, который теперь называется Кировоградом. Я ничего не могу сказать об этом городе такого, что дало бы ему какую-либо вескую характеристику. Я прожил в нем только несколько младенческих лет, после которых оказался живущим уже в Одессе, куда переехали родители. Значительно позже, уже юношей, я побывал в Елисаветграде, но и тогда увидел только южные провинциальные улицы с подсолнухами. Пел петух, белели и желтели подсолнухи – вот все мое восприятие города, где я родился.
О моем отце я знаю, что он был когда-то, до моего рождения, помещиком. Имение было порядочное, лесное, называлось «Юнище». Оно было продано моим отцом и его братом за крупную сумму денег, которая в течение нескольких лет была проиграна обоими в карты. Отголоски этой трагедии заполняют мое детство. Я вспоминаю какую-то семейную ссору, сопровождающуюся угрозами стрелять из револьвера, и ссора эта возникает, как вспоминаю я, из-за остатков денег, тоже проигранных… Впрочем, в Елисаветграде имеется у нас еще достаток: мы ездим на собственном рысаке, живем в большой, полной голубизны квартире. Отец, которого в те годы я, конечно, называл папой, пьет, играет в карты. Он – в клубе. Клуб – одно из главных слов моего детства.
– Папа в клубе.
Общее мнение, что папе нельзя пить – на него это дурно действует. И верно, я помню случай, когда папа ставит меня на подоконник и целится в меня из револьвера. Он пьян, мама умоляет его прекратить «это», падает перед ним на колени…
Не раз появляется у меня в воспоминаниях револьвер. Это не потому, что мой отец отличался какой-то особой склонностью убивать, вовсе нет, просто в ту эпоху оружие такого рода стало впервые доступно обыкновенным, не связанным с войной людям, револьвер стал некоей изящной вещицей, игрушкой, продавался в магазинах. Мужчине всегда в некоторой степени свойственно желание попетушиться, а тут еще под рукой такая штучка, как револьвер, почему же не схватить его, если для этого нужно только открыть ночной столик?
Итак, я стою на подоконнике, отец в меня целится. Это, конечно, шутка, однако ясно: отцу нельзя пить. Об этом известно клубменам и другим знакомым, известно родственникам, теще, теткам. Считается, что в трезвом виде папа обаятельнейший, милейший, прелестный человек, но стоит ему выпить, и он превращается в зверя.
Отца я, можно сказать, помню совсем молодым. Пожалуй, ему нет еще и тридцати лет, когда я уже знаю, что это мой отец. Наружности не помню. Помню какой-то отрывок из того, что родители называют именинами папы: я в дверях, и папа входит в двери из комнаты, куда хочу войти я, там в комнате на столе сладости, разноцветные, густо, необыкновенно нарядно блестящие бумажки от шоколадных конфет. Папа возвращается, берет что-то со стола и вручает мне. Передо мной, как вспоминаю я теперь, стоит молодой человек, низко и мягко подстриженный, я вижу, как молодо поворачивается его плечо…
Неотчетливо помню я также и маму. Она хорошо рисовала, ее называли Рафаэлем. Правда, никогда я рисунков маминых не видел, так что и насчет ее рисования, и насчет того, что ее называли Рафаэлем, может быть, это какое-то иное воспоминание, приплывшее ко мне из чужой жизни.
Хоть в моей памяти и не удержалось реальной об этом картины, тем не менее непреложно, что мама моя была красивая. Говор стоял об этом вокруг моей детской головы, да и вот передо мной ее фотография тех времен. Она в берете, с блестящими серыми глазами, молодая, чем-то только что обиженная, плакавшая и вот уж развеселившаяся женщина.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу