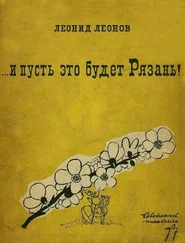Кот, извернувшись, царапал Сенину руку, но Сеня не слышал. «А ведь она сердится на меня. Тут что-то не так!» – подумал в следующую же минуту Сеня, различая в голосе девушки гневные нотки. Он вслушался, стараясь уловить причину ее гнева. Та, окончательно выйдя из себя, нетерпеливо барабанила ладонями по железу подоконника:
– Ах, да отпустите же кота... Это наш кот! Ах, какой глупый... он его задушит. Слышите вы? Отпустите кота, вам говорят!..
Сеня разжал руку. Кот мгновенно исчез, и уже откуда-то снизу угрожающе мяукнул. Голубя он так и оставил в водостоке. Кровь успела высохнуть и почернеть. «Ну вот, я выпустил. Теперь что?» – такой вопрос отображала вся Сенина фигура. Вместе с тем отказ от самого себя и какая-то необычная для него нежность были в этом вопросе. Холодки, мурашки и льдинки струились у него по спине. Опять закружилась голова. Скажи она – лети и, может быть, полетел бы, отдавая себя без рассуждений на губительный полет – любви?
На него упадало вечереющее солнце. Расстегнутая у ворота белая рубашка казалась девушке из гераневого окна сильным пятном оранжевого, тягучего света на большом куске черно-голубого, предгрозового неба. Он стоял теперь у гребня крыши, держась рукой за кирпичную кладку трубы. Девушка в окне, высунувшись еще более, укоризненно качала головой и смеялась:
– Ну, чего вы сюда глядите? Не глядите сюда! Слышите? не глядите...
А Сеня догадался, что она топала ногой, и улыбался ее гневу широко и восторженно. «Тонкая какая», – подумал Сеня и, сам того не ожидая, прокричал ей:
– Не вылазь, не вылазь... переломишься!..
Та сердито захлопнула окно и тотчас же задернула занавеску. Гераневое окно сразу потерялось среди всех других, столь же незначительных оконцев.
Сеня сел на гребень крыши и осмотрелся. «Вот здорово!» – сказал он вслух и засмеялся сам себе над внезапностью всего события. Солнце приятно щекотало ему лицо, и ветерок отдувал расстегнутый ворот рубашки. Он поднял руку застегнуть ворот и недовольно нахмурился: двух верхних пуговиц недоставало у ворота. Потом взгляд его сам собою перекинулся на сапоги. Они были тяжелы и неуклюжи, восхищавшая его когда-то крепость их теперь казалась вопиюще грубой несуразностью. «Бочки, а не сапоги. Капустой их осенью набивать, вот что!» – подумал он и, неудержимо покраснев, глянул исподлобья на противоположные окна. Ему вспомнились Карасьевские сапожки, тонкой кожи, лакированными бутылочками... Он огорченно покачал головой.
И точно преисподний дух, легкий на помине, в чердачное окно просунулась потная, обозленная рожа самого Карасьева.
– Ты чего ж тут балбесничаешь? Пшел домой! – рявкнул он, багровея от удовольствия удовлетворить свой гнев. – Чего народ внизу собираешь! Я вот тебе задам, неслуху!.. – и он взмахнул тросточкой, держа ее за нижний конец. Рукоятка изображала серебряную женщину, но от времени живот у ней протерся и стал медный.
Тут случилось совершенно непредвиденное Карасьевым. Сеня засмеялся, беззлобно, но с какой-то возмутительной самостоятельностью:
– А ну, поди сюда! Я тебя, лошака ярославского, вниз скину...
– Ну и дурак, – зло обиделся Карасьев, не решаясь выбраться на крышу. – Я тебе заместо отца родного, можно сказать. А ты этак-то? Погоди. Я тебя, мужика, выучу, припомню!
– В поминанье пропиши, – весело кричал ему Сеня. Но тот уже исчез с той же внезапностью, как и появился.
...Долго здесь сидел Сеня. Чуть не весь город лежал распростертый внизу, как покоренный, у ног победителя. Огромной лиловой дугой прошитой золотом, все влево и влево закруглялась река. Широкое и красное, как цветок разбухшей герани, опускалось солнце за темные кремлевские башни, пики и купола, многообразно и величественно стерегущие древнюю нетронутость Москвы.
Взметенная дневной суетой оседала пыль, и уже жадней хватала Сенина грудь веянья холодеющего воздуха. А снизу источалась духота, жар, томящая, расслабляющая скука. Небо потухало, все больше походя на блеклую, выгоревшую на солнце синюю ткань. Все принимало лилово-синий отсвет ночного покоя, усугубляемый тучей, наползавшей с востока, медлительной и страшной, как гора, вывернутая ветром из своих скалистых лон. Ночь обещала грозу, и уже попыхивал молниями иссушенный московский горизонт.
Сеня обернулся. Москва быстро погружалась в синеву потемок, но там, далеко, главенствуя над сумерками, диким бронзовым румянцем пылал крест и купол Никиты-мученика, что на Швивой горе. Дальше, в туманно-пыльной дали, обманывался глаз. Там загорались серебряные точки в окнах, но очертанья самых окон размывала мгла.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу