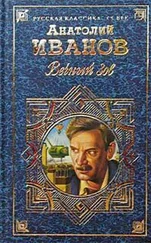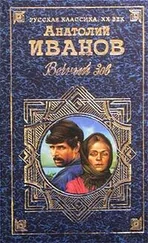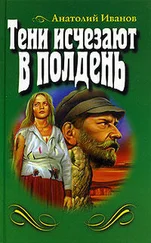– Это у тебя главный козырь, давно знаю, – перебил Фрол. – А я вот что скажу тебе: ветки дерева вместе растут, да в разные стороны глядят.
– Рухнет… дерево, тогда… тогда все ветки… – торопливо, будто боясь, что его перебьют, закричал Устин.
– Что ж тогда? – спокойно произнес Курганов. – И тогда не все в землю уткнутся. Некоторые в небо глядеть будут.
Наконец Устин опомнился, вздохнул глубоко.
– Погоди, погоди! – Устин вытер мокрый лоб. – Я тебя еще раз, Фрол… предупредить еще раз хочу… Если ты, змея ползучая… И я не угрожаю, не-ет…
– Попей воды вон, – спокойно посоветовал Фрол.
И Устин покорно подошел к ведру, стоявшему на табуретке возле печки, зачерпнул полный жестяной ковшик, жадно начал глотать, проливая воду на бороду, на пиджак.
– Так вот… – Устин отшвырнул ковшик. – Так вот, если ты хоть пошатнуть вздумаешь это дерево… Еще завалится оно или нет, а твоя шкура уж высохнуть успеет. Понял?! Понял?!
– Корешки-то, видать, насквозь прогнили, само упадет. Тайгу вон, где нужно, Захар и то корчует. А уж гнилье-то…
Морозов только мотнул головой, будто хотел и не мог выговорить какие-то слова.
– А меня не опасайся. Я бы уж давно пошатнул, если б мог. Так пошатнул бы, чтоб с треском… Твое счастье, Устин, что не могу… Но, Устин, – голос Фрола задрожал, как натянутая струна, – не дай тебе бог… Я много кой-чего делал по твоей воле. – По лицу Фрола волнами прошла боль. – Но если ты, Устин, тронешь Смирнова… Если хоть один волос упадет с его головы, тогда…
– Во-он ты опять как заговорил! – вымолвил наконец Устин Морозов, на этот раз почти шепотом.
– Опять так же, верно… И хорошо, что в тридцать седьмом ты послушался меня. Если б настрочил на Захара кляузу, если Большакова посадили бы, то и ты бы следом загремел…
– Пугаешь, значит! Пугаешь, индюк надутый! Ты кого пугаешь, а?! Ты кого, спрашиваю…
Морозов кричал, размахивая руками, крутил ими все сильнее и сильнее, будто намеревался взлететь.
Фрол ушел, плотно захлопнув за собою дверь. Устин перестал размахивать руками, долго-долго смотрел на эту дверь.
Затем глянул в печку. Там огня уже не было, там дымились одни головешки густым и едким желтоватым дымом.
Устин нагнулся и взял полено. Но в печку его не бросил, а принялся зачем-то внимательно рассматривать. Осмотрел со всех сторон, поднял глаза, словно хотел спросить у кого-то: почему у него в руках оказалось это полено, для чего он его держит, что с ним делать?
Он думал об этом так напряженно, что в голове зазвенело. Бросил полено на пол, бессознательно надеясь, что звон в голове, отдающийся тупой болью, тотчас утихнет. Но звон не утих. Помимо своей воли он стал прислушиваться к нему все внимательнее. Сначала смутно подумал: этот звон начался ведь не в ту секунду, когда он взял полено. Нет, он начался много раньше… когда… Ну да, когда Фрол Курганов сказал… Как это он сказал? «Корешки-то, видать, насквозь прогнили…» Вот когда! И этот звон не прекращался ни на секунду, просто он временами не слышал его, как шофер не слышит шума работающего мотора. Но чихнет мотор – и тотчас резанет по уху, отдастся в голове шофера. А почему в его, Устиновой, голове отдался с новой болью звон, когда он взял полено? Почему? Что он в то время сделал? Заглянул в печь, увидел сгоревшие головешки?.. Сгоревшие! Вон что?!
Устин лихорадочно начал сгибаться и разгибаться, начал хватать из большой кучи одно за другим тяжелые поленья и швырять в черный печной зев.
– Нет, врешь, Фрол, врешь! Не сгнили корешки! И Захарка ничего не выкорчует. И не сгорел еще я, не выгорел весь… Сейчас загудят, загудят дрова. И я, и я…
Устин плотно забил дровами всю печь. Когда поленья толкать было некуда, Морозов опустился устало на стул. Опустился, опять прислушался… Нет, звон в голове не проходил.
И вдруг ясно, с леденящим сердце ужасом, Устин начал осознавать, что звон этот и эта боль в голове не пройдут, не затихнут никогда. Никогда, потому что… потому что он начался раньше, намного раньше, чем пришел Фрол. Но когда? В ту секунду, когда Илья Юргин произнес: «Засучим ногами, как тараканы на иголке»? А может быть, еще раньше, когда Федька, сын родной, заявил ему там… в Усть-Каменке: «Не упомнишь, говоришь, всех своих кровавых дел? Ничего, дорогой мой отец, люди-то не забудут».
Устин застонал тяжело и мучительно, откинулся на спинку стула. Клееный стул затрещал, грозя развалиться. Но Устин ничего не слышал, кроме прежнего звона, раздавливающего голову. Казалось, что голова его зажата меж каких-то шершавых каменных глыб, и глыбы эти сдвигаются, сдвигаются… И еще казалось, что это когда-то уже было, было… Когда, когда?
Читать дальше