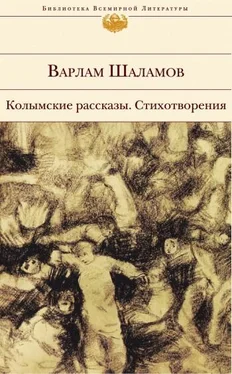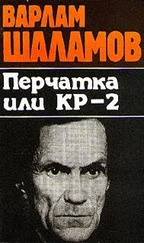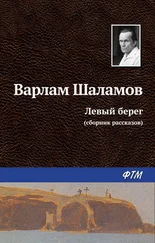Меня начальник больницы тоже не арестовал, не посадил в карцер, не загнал на штрафняк, не перевел на общие работы. Но в очередном отчетном докладе на общем собрании сотрудников больницы, в битком набитом кинозале мест на шестьсот, начальник рассказал подробно о тех безобразиях, которые он, начальник, собственными глазами видел в хирургическом отделении во время обхода, когда фельдшер имярек сидел в операционной и ел бруснику из одной миски с пришедшей туда женщиной. Здесь, в операционной…
– Это не операционная, а перевязочная гнойного отделения.
– Ну, все равно!
– Совсем не все равно!
Доктор Доктор сощурил глаза. Подавал голос Рубанцев, новый заведующий хирургическим отделением, – фронтовой хирург с войны. Доктор Доктор отмахнулся от критикана и продолжал инвективы. Женщина не была названа по имени. Доктор Доктор, полновластный хозяин наших душ, сердец и тел, почему-то скрыл фамилию героини. Во всех подобных случаях в докладах, приказах расписываются все подробности, возможные и невозможные.
– А что этому фельдшеру из зэка было за столь явное нарушение, да еще установленное лично начальником?
– А ничего.
– А ей?
– Тоже ничего.
– А кто она?
– Никто не знает.
Кто-то посоветовал доктору Доктору сдержать на сей раз свой административный восторг.
Через полгода или через год после этих событий, когда и доктора Доктора в больнице не было давно – он был переведен за свое рвение куда-то вперед и выше, – фельдшер, однокурсник мой, спросил меня, когда мы проходили по коридору хирургического отделения больницы:
– Вот это и есть та самая перевязочная, где проходили ваши афинские ночи? Там, говорят, было…
– Да, – сказал я, – та самая.
1973
Смерть Сталина не внесла каких-нибудь новых надежд в загрубелые сердца заключенных, не подстегнула работавшие на износ моторы, уставшие толкать сгустившуюся кровь по суженным, жестким сосудам.
Но по всем радиоволнам передач, отражаясь многократным эхом гор, снега, неба, ползло по всем закоулкам поднарного арестантского жития одно слово, важное слово, обещавшее разрешить все наши проблемы: то ли праведников объявить грешниками, то ли злодеев наказать, то ли найден способ безболезненно вставить все выбитые зубы обратно.
Возникли и ползли слухи классического характера – толки об амнистии.
Юбилей любого государства от годовщины до трехсотлетия, коронации наследников, смена властей, даже кабинетов, – все это является в подземный мир из заоблачной выси в виде амнистии. Это классическая форма общения верха и низа.
Традиционная параша, которой все верят, – самая бюрократическая форма арестантских надежд.
Правительство, отвечая на традиционные ожидания, делает и традиционный шаг – объявляет эту самую амнистию.
Не отступило от обычая и правительство послесталинской эпохи. Ему казалось, что совершить этот традиционный акт, повторить царский жест – значит выполнить какой-то нравственный долг перед человечеством, что сама форма амнистии в любом ее виде полна значительного и традиционного содержания.
Для выполнения нравственного долга любого нового правительства есть старая традиционная форма, не применить которую – значит нарушить долг перед историей, страной.
Амнистия готовилась, и даже в спешном порядке, чтобы не отступить от классического образца.
Берия, Маленков и Вышинский мобилизовали верных и неверных юристов – дали им идею амнистии, все остальное было делом бюрократической техники.
Амнистия явилась на Колыму после 5 марта 1953 года к людям, прожившим всю войну в размахах маятника арестантской судьбы от слепых надежд до глубочайшего разочарования – при каждом военном поражении и каждом военном успехе. И не было прозорливого, мудрого, который определил бы, что лучше, выгоднее, спасительнее для арестанта – победы или поражения страны.
Амнистия пришла к уцелевшим троцкистам и литерникам, оставшимся в живых после гаранинских расстрелов, пережившим холод и голод золотого забоя Колымы тридцать восьмого года – сталинских лагерей уничтожения.
Всем, кто не был убит, расстрелян, забит до смерти сапогами и прикладами конвоиров, бригадиров, нарядчиков и десятников, – всем, кто уцелел, заплатив полную цену за жизнь – двойные, тройные добавки срока к своему пятилетнему, который арестант привез на Колыму из Москвы…
Не было заключенных на Колыме, осужденных по пятьдесят восьмой статье на пять лет. Пятилетники – это узкий, тончайший слой осужденных в 1937 году до свидания Берии со Сталиным и Ждановым на даче у Сталина в июне 1937 года, когда были забыты пятилетние сроки и разрешен метод номер три для добывания показаний.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу