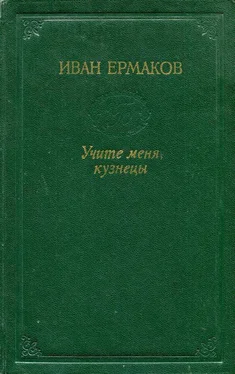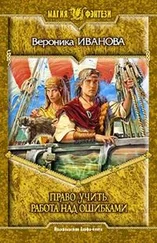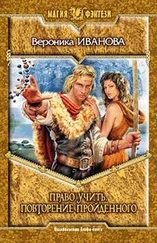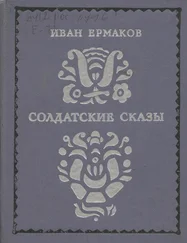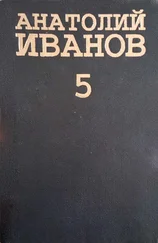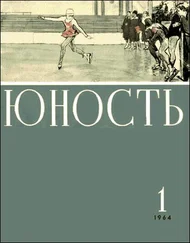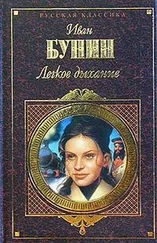По-своему передал Иван Ермаков время, в котором жил, в котором шли рядом с ним его современники.
Находились советчики, говорившие, что пора Ивану Михайловичу (с его-то опытом!) браться за «серьезные», большие вещи. А он — писал сказы. Делал то, что считал нужным, в чем чувствовал свою самостоятельность, самосильность. Да и не мог долго засиживаться дома, слишком сильна была жажда познания нового. Легок был на ногу Иван Михайлович. На любом попутном транспорте колесил он по Тюменщине. Сколько встречено людей, сколько сиживал в доброй беседе по ту и эту сторону Полярного круга.
Маршруты его лежали то в оленеводческий совхоз на Ямале, то в глубинный леспромхоз, то к нижневартовским бурильщикам. Прослышав о небывалом для Приполярья «огородническом» рекорде, писатель спешит в Сургут, чтобы «по пути» завернуть на Ханты-Мансийскую опытную станцию и загореться там идеей сельхозпредместий нефтяных городов (нынешних подсобных хозяйств промышленных предприятий).
Ездил он и на стройку приполярного газопровода, и к вышкомонтажникам Урая, но куда бы ни заносили писателя дороги, всегда и всюду находил он своих героев, людей негромких профессий, влюбленных в труд.
Подчас кое-кто и посмеивался над Иваном Михайловичем, особенно над его «сельхозидеями»: «Стоило из-за этого огород городить?» Он не обижался, хорошо зная, как необходимы во вновь обживаемых северных районах, куда перебирались люди с семьями, с детьми, зеленое перышко лука, свежий огурчик и стакан натурального молока. («Они — «северная надбавка» тепла человеческого. Вот рентабельность!»)
И ложились на редакционные столы задористые, не похожие на собратьев очерки. Листаешь сейчас подшивки журнала «Урал», вчитываешься в страницы публицистики Ивана Ермакова — «Знамена просят ветра», «Петушиные зорьки», «Ямальская фея», «Под крылом у жар-птицы», «Заря счастье кует» — и точно погружаешься в шестидесятые — семидесятые годы. Зорко схвачены приметы, черты и черточки нового — не описание, а проникновение в среду, в быт, в его изменения, мысли об увиденном, полные деятельной любви к многоликому Тюменскому краю, к его будущему. Это поистине «свидетельства времени» — живые, емкие, точные.
По языку очерки близки сказам — та же цветастость, эмоциональная насыщенность, яркая образность, афористичность. Не скажет, что весна засушлива. «Весна нынче в солнце влюбленная шла, взора не отвела, каждой лужей по милому высохла». Или: «Сибирская осень — она самовольница, шатун-медведица, неверная женка».
Публицистика давала сильные токи творчеству. Прорастали зернышки новых сказов («Звонкое дело», «Аленушка», «Авка слушает ветры», «Дедушкин табак», «Кузнецы», «Память»), зрели замыслы.
Сколько еще мог сделать Иван Михайлович, было у него что сказать читателю…
В декабрьской книжке журнала «Урал» за 1974-й — через полгода после смерти Ермакова — печатался последний его очерк «В поле — воин», как бы соединивший воедино две главные темы творчества писателя: память войны и поклонение человеку труда. Да, была у Ивана Михайловича Ермакова своя радуга — долго она еще будет кудесить яркими всполохами родного неба, родных полей в его добрых и лукавых творениях, радуя и удивляя не одно поколение читателей.
Нина Полозкова
Многолетнее травянистое растение — каучуконос.
Ботало — колокольчик на шее лошади.
Фамилии подлинные.
Фамилии подлинные.