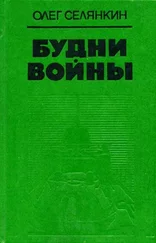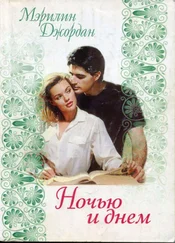— А что, нельзя послать его к черту? — добродушно спросила Марина Сергеевна. — Разве вы не человек…
— Нет. Вот именно, что — нет. Он творец, он бог, он художник. На людях сплошное обаяние, дома может раскисать, ворчать, быть несправедливым, мелочным, искать ссоры и через мгновение забывать об этом… Но я должна улыбаться. Вы спросите, почему должна? — Юлия Павловна поторопилась предупредить возможный вопрос. — Во имя его успеха. Чаще он капризничает, когда не ладится роль. Впрочем, когда роль получается и он снова на коне, тогда он высокомерен, важен… Но в минуты, когда он на сцене, а я смотрю на него из зала, я так счастлива: этот жест я подсказала, вот тут я похвалила его… Ах, это невозможно передать, я ведь и сама была актрисой, бросила, но профессиональный дух остался, живет во мне!..
— И все-таки вы недостаточно тверды, — сказала Марина Сергеевна, — надо быть построже…
— Ха! Над ним, как мошкара, кружат женщины, готовые все простить, согласиться на любые условия. Я вынуждена быть умнее их, остроумнее, практичнее, мечтательнее, деловитее, моложе, обольстительнее, щедрее, в общем, я должна, должна и должна… Вы помните, у протопопа Аввакума была жена, и когда в изгнании они шли однажды в метель, в буран, по льду и она вдруг спросила в отчаянии: «Доколе жизнь сия?» — он ответил: «До самой смерти, Марковна». Но представляете, если бы за Марковной еще толпой шли соперницы и поджидали со злорадством, не споткнется ли она? — У Юлии Павловны хватило ума пошутить: — Правда, я не хожу по льду, чаще по паркету, но и на шпильках можно устать до чертиков… — Она опять вытащила сигарету. — Впрочем, они не так страшны мне, от соперниц я уж как-нибудь отобьюсь, мучают меня дневники…
Она перехватила недоумевающий взгляд Марины Сергеевны.
— Муж ведет дневник. И малейшую нашу ссору, малейшую мою оплошность описывает в этом дневнике, а я не хочу входить в историю дурой… — Марина Сергеевна была вконец удивлена. — Да, дурой, или истеричкой… Я не хочу быть сварливой в глазах потомков, поймите…
— Подумаешь, вам-то что… — пожала плечами Марина Сергеевна. И даже усмехнулась: — Потомки…
— Нет, не «что», не «что», — обиделась Юлия Павловна.
— Но разве… ваш муж такой великий артист? Я думала, что дневники…
— Он играет главные роли… а у них в театре это традиция, они же преемники замечательных людей, основоположников, они все ведут дневники, пишут мемуары и письма с оглядкой на историю… Конечно, я тоже делаю кое-какие записи, но ведь имя всегда ценят больше, чем истину.
— Нет, я бы на все это плюнула. Вот взяла бы и плюнула…
— И что? Остаться одной? После того, как жизнь прожита? Он женится, я спокойна за это, за него любая молодая пойдет. А я? Я, с моими наклеенными ресницами, что должна делать? Если хотите знать, я его создала, без меня он бы не достиг того, чего достиг… Вам хорошо рассуждать, вы сами знаменитость, сами по себе представляете интерес. А я? Да у меня и знакомых не будет, меня и приглашать одну никуда не будут…
— Пусть не приглашают…
— Одиночества я не перенесу…
Марина Сергеевна посмотрела с сожалением. Все было, казалось, то же самое — прическа, рост, меховой жакет, темные очки, но как будто позолота сползла, слезла, Юлия Павловна потускнела. Марина Сергеевна сказала задумчиво:
— Ну и что, одиночество можно освоить. Трудно, конечно, когда нету привычки быть одной, но ничего, освоить можно…
7
Раньше она не любила воспоминаний. Она вообще не любила ничего пассивного, предпочитала действовать. Но теперь… Воспоминания одолевали, обрушивались на нее, как камни во время обвала. Она пришла в горы после того, как всю ночь бушевал ветер, и ахнула. Не бог весть какие горы были близ санатория, и дорожки содержались в чистоте, чтобы отдыхающим было удобнее совершать свой терренкур, как загадочно назывались здесь прогулки; теперь эти дорожки, эти тропы были завалены камнями, сползшими с отвесных склонов, огромные, с корнями вывороченные деревья преграждали путь. Ветки были еще живые, трепещущие, мокрые от дождя, как от слез. По мощным стволам встревоженно ползали муравьи, но деревья уже были обречены. Скрюченные, как пальцы в судороге, корни уже не цеплялись за каменистую почву. И так же вот стоило подуть легкому ветру воспоминаний, обрушивались целые куски жизни, сталкивались, как обломки скал, стремительно летели вниз, раня давно забытой болью, разворачивая душу, которую она всегда называла «идеалистической выдумкой», как разворачивали почву эти вырванные с корнями деревья.
Читать дальше