Лодчонка стояла в заросшей протоке у островка. Мальчики уложили в нее рыбу и шестом поспешно отпихнулись с мелководья.
Крыжни летели с востока и трижды подали голос над жильем Махотки. Это случилось вчера. А перёд тем казак с поля — из тех, что ватагами и в одиночку с понизовых степей набежали сейчас в станицу, — зашёл, посидел, поел сухой черной лепешки (стала и она лакомством!), запил водицей, утерся рукавом, вынул из–за пазухи рваный рыжий колпак и передал с поклоном.
Ждала она по осени, ждала по первой траве, долго ждала, казаку не поверила — поверила птицам. В восточном краю сложил голову ее муж. И, качаясь, она заголосила по мертвому.
Соседка уговаривала:
— Марья, что ты? Жив, может…
Ушла соседка; стемнело, все смолкло вокруг. И тогда женщина притихла и села неподвижно, обхватив руками колени. В пустом углу, в нарезанной куге зашуршало, блеснул в свете месяца скользкий уж. Там место ее сына, там спал он. Подрос птенец и отвалился от гнезда.
Она просидела до утра, наморщив брови, — одна в жилье, одинокая в мире.
Утром прибралась, покрыла голову и, широко, по–мужски шагая сильными своими ногами, вышла на вал — кликать сына.
Мглистая река текла внизу.
Был чист берег реки, где к воде спускался вал, кудрявые заросли отмечали дальше прихотливый бег ее по огромному полукружью степи.
Курганы горбились кой–где, желтея глинистыми, словно омытыми влагой осыпями. И небесная чаша нового дня, чистейшая, без облачка, опиралась краями на дальние земные рубежи, где все было — свет, и голубизна сгущалась и реяла, как крыло птицы.
— Гаврюша! Рю–ше–епь‑ка!.. — выкликала женщина и, выкликая, вслушивалась в свой голос.
Ничто не отвечало ей. На просторе не рождалось эхо, жилец тесноты. Лишь пестренькая птичка с венцом на голове — удод — кинула свой остерегающий крик из–за мелких камней.
Женщина хмурилась. Не думала она о том, что делается в станице, не присматривалась, не прислушивалась, а все же чуяла всем существом, как нависло вокруг ожидание бед и грозы. Обманывала утренняя тишина степи. Пришлый народ не умещался по куреням, и всю ночь тянуло гарькон от огней, горевших за валами.
Раздался топот: она обернулась. Конная ватажка показалась из–за изгиба вала. Ехалн в городок. На низких ногайских коньках — полные, тяжело отвисшие торопи и турсуки, и кони загнанные, измученно носящие боками, в мыле. Махотка, все так же хмурясь, глядела, как конники гуськом поднимались по узкой тропке к задам богатого куреня Якова Михайлова. Потом подождала немного и кликнула еще. У чьего огня грелся Гаврюша, сын ее, этой ночью?
По склону в тысячелистнике, ощущая спиной тепло красноватого еще света, женщина сошла в ров, уминая босыми ногами жирную прохладную свежеразрытую пахучую землю. Уцепилась руками за край рва, напрягшись, легла животом на край, встала и пошла к каменьям, где птичка в венце, оберегая для одной себя стенной покой, кричала: «Худо тут!»
Права птичка! Тут–то и увидела казачка Махотка недоброго человека. Скорчившись, он копал землю ножом.
Почему поняла она, что не просто копал он, а с воровской ухваткой? Не раздумывая, не прикидывая, как поступить, женщина распласталась за камнем.
Человек казался знакомым, но низко надвинутая шапка мешала разглядеть его лицо. Нож не лопата — копал торопясь, но долго. Что–то еле слышно звякнуло, человек достал то, что выкопал, укрыл под полой и тотчас, не закидывая ямы, будто гуляючи, пошел прочь; пошел к балке, сухому отвертку, падавшему в реку. Шел смело, беззаботно, только раз мельком оглянулся.
А Махотка, согнувшись, по высоким травам перебежала к реке и берегом, хрустя ракушками, заспешила к устью балки.
На лысом мыске сидел другой человек. Сидел он как–то скучно, как бы в долгом ожидании, голову подперев руками, чернявый мужик в посконном зипуне, с покатыми плечами. «Двое!» И на миг остановилась казачка. Затем, чтобы миновать второго, вскарабкалась на кручу.
На юру бежала, пока не открылась балка. А тот, с воровски оттопыренной полой, уже спускался по тропе. Оседланный гнедой стоял под обрывом.
Казачка увидела выбеленный дождями лошадиный череп на дне балки, узловатый, обглоданный куст дерезы, к которому был привязан повод, и рябое лицо вора: то был Савр, прозванный «Оспой», ясырь, пленник казака Демеха и Демехов табунщик. И, вскрикнув по–бабьи, Махотка с маху сверху, с обрыва, кинулась на него, смяла силой удара.
Огненные искры брызнули перед ее глазами, она не слышала, как со звоном покатилось то, что было под полой, и всю силу жизни своей вложила в пальцы, давившие, душившие потную шею Савра Оспы.
Читать дальше
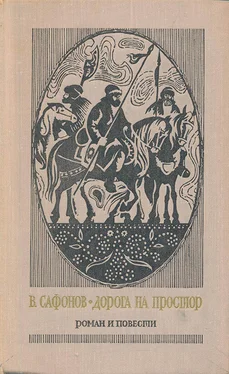




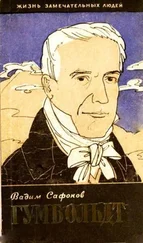
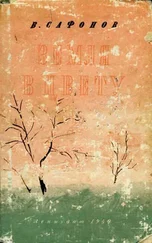



![Андреа Вульф - Открытие природы [Путешествия Александра фон Гумбольдта]](/books/403590/andrea-vulf-otkrytie-prirody-puteshestviya-aleksan-thumb.webp)
