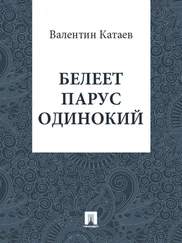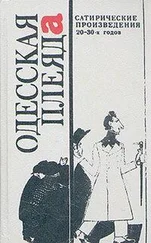Мадам же Стороженко невозмутимо пересчитала рыбу и протянула дедушке двенадцать копеек липкими медяками, коротко заметив: «В расчете».
Дедушка взял деньги и тут же, весь клокоча от бессильного гнева, пошел в монопольку и купил за шесть копеек голубой шкалик с красной головкой. Он ободрал сургуч о специальную терку, прибитую на акации возле питейного заведения, и трясущейся рукой выбил пробочку, завернутую в тонкую бумажку.
Он одним духом вылил в горло водку и «вместо закуски» вдребезги трахнул о мостовую тонкую посуду, хотя мог бы получить за нее копейку залога.
Затем отправился домой, купив по дороге для внучка за копейку красного леденечного петуха на сосновой щепочке – ему все еще казалось, что Гаврик совсем маленький мальчик, – а также два монастырских, очень белых и очень кислых бублика для больного матроса.
Остальные деньги он истратил на полтора фунта житного.
По дороге его разбирала такая злоба, что он раз десять останавливался и плевал с яростью куда попало, будучи в полной уверенности, что плюет в поганые очи мадам Стороженко.
– Святой истинный крест! – говорил он, дыша прямо в лицо Гаврику сладковатым запахом водки и суя ему в руки леденечного петуха. – Кого хочешь спроси на привозе – весь привоз видел, как я ей наплевал в поганые очи! А ты, деточка, скушай петушка, ничего. Он все равно как пряник.
Тут старик вспомнил про больного и стал совать ему бублики.
– Не трожьте его, дедушка. Он только что заснул. Пускай отдыхает.
Дедушка осторожно положил бублики на подушку рядом с головой матроса и шепотом сказал:
– Ссс! Ссс! Пускай теперь отдыхает. А потом, как проснется, будет есть. Житный ему нельзя: у него теперь кишки сильно слабые, а бублички можно, ничего.
Полюбовавшись на бублики и на больного, старик покачал головой и заметил нежно:
– Спит и ничего не чует. Эх, матрос, матрос, неважное твое дело!
Он постелил себе в углу пиджак и лег отдыхать.
Гаврик вышел из хибарки, огляделся по сторонам и плотно прикрыл за собой дверь. Он решил, не медля ни минуты, отправиться на Ближние Мельницы, к старшему брату Терентию. Это решение возникло в ту же минуту, когда мальчик услышал, как больной произнес в бреду слово «комитет». Гаврик не знал в точности, что такое комитет. Но однажды он слышал, как это слово сказал Терентий.
Петя проснулся и был поражен, увидев себя в городской квартире, среди забытой за лето мебели и обоев.
Сухой луч солнца, пробившийся в щель ставня, пересекал комнату. Пыльный воздух был как бы косо распилен сверху донизу. Ярко освещенные опилки воздуха – пылинки, ниточки, ворсинки, движущиеся и вместе с тем неподвижные, – образовали полупрозрачную стену.
Крупная осенняя муха, пролетая сквозь нее, вдруг вспыхнула и тотчас погасла.
Не слышалось ни кряканья качек, ни истерического припадка курицы, снесшей за домом яйцо, ни глупой болтовни индюков, ни свежего чириканья воробья, качающегося чуть ли не в самом окне на тоненькой веточке шелковицы, согнутой под ним в дугу.
Совсем другие, городские звуки слышались снаружи и внутри квартиры.
В столовой легко гремели венские стулья. Музыкально звучала полоскательница, в которой мыли поющий стакан. Раздавался «бородатый» – в представлении мальчика – голос отца, мужественный и по-городскому чужой. Электрический звонок наполнял коридор. Хлопали двери, то парадная, то кухонная, и Петя вдруг узнавал по звуку, которая из них хлопнула.
А между тем снаружи, из какой-то комнаты с окном, открытым во двор – ах да! из тетиной, – не прекращаясь ни на минуту, слышалось пение разносчиков. Они появлялись один за другим, эти дворовые гастролеры, и каждый исполнял свою короткую арию.
– Угле-ей! Угле-е-ей! – откуда-то издалека пел русский тенор, как бы оплакивая свою былую удаль, свое улетевшее счастье. – Угле-е-ей!
Его место занимал низкий комический басок точильщика:
– Точить ножи-ножницы, бритвы!.. Чшшить ножи-ножжж, бритввв!.. Ножиножжж… Бррр-иттт…
Паяльщик появлялся вслед за точильщиком, наполняя двор мужественными руладами бархатного баритона:
– Па-ять, починять ведра, каструли! Па-ять, починять ведра, каструлии!
Вбегала безголосая торговка, оглашая знойный воздух городского утра картавым речитативом:
– Груш, яблук, помадоррр! Груш, яблук, помадоррр!
Печальный старьевщик исполнял еврейские куплеты:
– Старые вещи, старые вещи! Старивэшшш… Старивэшшш…
Наконец, венчая весь этот концерт прелестной неаполитанской канцонеттой, вступала новенькая шарманка фирмы «Нечада», и раздавался крикливый голос уличной певицы:
Читать дальше