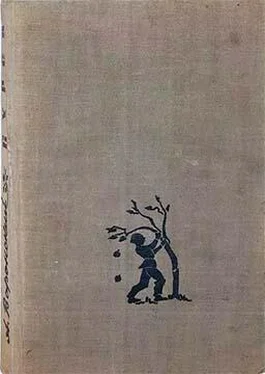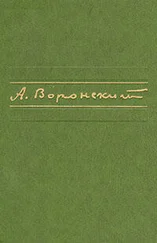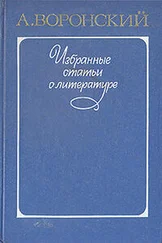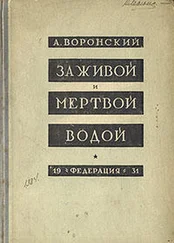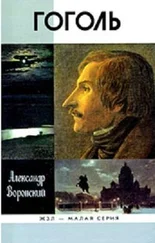Даша пересела на диван, покусала верхнюю губу.
— У каждого человека есть родные. Отец в борисоглебских железнодорожных мастерских работает. Пятеро у него, я самая старшая. Чем могу, помогаю. Жила раньше у дяди, портного по дамским нарядам. Ушла, не стерпела: измывался и работой досаждал. Теперь самостоятельно обхожусь.
— Так-с! — с неожиданной наглостью крякнул Любвин, но сразу осекся и поднялся прощаться.
Даша предложила зайти к ней завтра.
— Очень приятно, — ответили мы оба в один голос, изображая кавалеров, а Любвин шаркнул сапожищами и даже сделал губы сердечком.
В бурсе мы едва не поссорились. Я заметил приятелю, что ему незачем было щеголять папиросами; курить мы не умеем, и поделом его вырвало. Любвин утверждал: у Даши ему сделалось только дурно, папиросами щеголял не он, а я, именно я не умею курить, он же, Любвин, давно начал курить, но в бурсе, понятно, от табаку воздерживался. Мы разошлись в некоем взаимном ожесточении.
На другой день, забыв распрю, мы гуляли с Дашей по городу. Гуляя, мы решили подняться на колокольню Казанского собора. Там на подмостках любитель церковного трезвона, видимо, из мещан с базара, вдохновенно работал ногами и руками. Он походил на игрушечного паяца, которого неистово дергают. Звонарь склонил голову к плечу и зажмурился в забытьи, между тем его пальцы, локти, ноги работали, как только могли. Под большим тысячепудовым колоколом раскачивал язык здоровенный дядя в поддевке, без головного убора, с волосами, остриженными в круг и жирно смазанными маслом. Дядя бил в колокол деловито, истово. Колокол низко и мощно гудел. Густые звуки переполняли колокольню; казалось, их можно было видеть, вдыхать, осязать. Они гудели не только в ушах, но и в голове, во всем теле, а сверху мелкие трезвоны, заливаясь, куда-то спешили наперегонки. Мы поднялись выше, под самый купол. Лестница туда от колокольни, очень крутая, совсем обветшала. Мы помогали Даше. Под куполом крестообразно лежали толстые, аршина в полтора ширины, дубовые брусья, окованные железными полосами для поддержки большого колокола. Гортанно ворковали голуби, били крыльями, подолгу возились, устраиваясь под крышей. Затопленный могучим весенним солнцем город горел на крышах и окнах. Листья еще не успели распуститься, но деревья уже выглядели бурыми. Река стыла в голубых и крутых извивах. И город, и весна, и небо, и пасхальный трезвон сливались в одну чудесную песню без слов, молодую, желанную, какую слышишь только в ранней юности, да и то изредка.
Мы долго стояли молча у пролета, два бурсака и ситцевая Даша-белошвейка.
Любвин обнаружил свои познания места.
— Здесь, — сказал он положительно, — собираются пьянствовать семинаристы. Во-первых, сюда никакие субы, никакие начальники не решаются забираться, а во-вторых, упившись, семинаристы на спор спускаются пьяные вниз; ступенек многих нету, надо сойти и не сломать себе шеи или ноги.
— Какие отчаянные! — молвила Даша.
— Еще бы, — с гордостью подтвердил Любвин.
Вдруг Даша подалась назад, схватила меня за руку и вскрикнула. Побледнев, она запрокинула голову, глаза ее закрылись, потом на миг открылись, блеснув тускло и мертво. Даше сделалось дурно. Мы оттащили ее от окна. Даша пришла в себя, но смотрела на нас неузнающим взглядом, наконец, прошептала:
— Голова закружилась… Потянуло… Будто лежу на мостовой… вся в крови… помираю… и день такой же… трезвон… солнце… голуби… одна… и никому не нужна…
Успокаивая Дашу, мы медленно спустились. Все еще бледная, она взяла меня и Любвина под-руки. Мы пошли около собора, по саду, где помещались архиерейские покои и духовная консистория. Неподалеку от ворот показался высокий монах, в клобуке, с посохом. Монах двигался нам навстречу с плотным человеком в мундире. В монахе мы узнали архиерея, а в плотном человеке — Халдея, но узнали мы их, когда отступать или свертывать в сторону уже было поздно. Я хотел освободиться от дашиной руки и даже сделал невольное подловатое движение, но упрямство, гордость, стыд удержали меня. То же самое, видимо, испытал и мой приятель.
У Халдея при взгляде на нас вспыхнули оттопыренные уши.
О новом архиерее, сменившем любителя церковного трезвона, известно было по эпархии, что он страдал обычной архиерейской болезнью: от неподвижной жизни архиереи жирели и страдали запорами. Новый архипастырь, подверженный чрезмерной тучности, любил гулять по соборному двору и даже, по слухам, для здоровья пилил и колол дрова. Поровнявшись с ним и с Халдеем, мы почтительно сняли фуражки и посторонились. Архиерей, с заплывшими глазами, с седой, обширной бородой, пожевал вялыми губами, приподнял посох.
Читать дальше