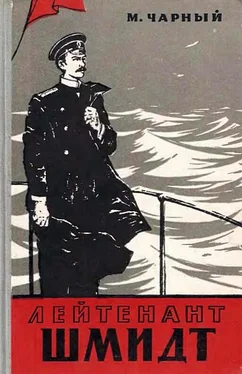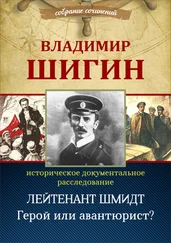Матросы «Очакова» считали, что красота Никиты немало навредила ему. Девчата засматривались на него, когда он был еще мальцом, и отец Никиты, екатеринославский хлебороб, поторопился, от греха подальше, женить восемнадцатилетнего сына. И вот, призванный на военную службу, Антоненко должен был покинуть не только молодую жену, но и двоих сыновей, к которым успел привязаться.
Матросы любили Антоненко и за его отцовскую грусть, и за добрую богатырскую силу, которой он пользовался всегда в защиту справедливости, и за искорки украинского юмора.
Да и над мужицкой своей темнотой Самсон напрасно подшучивал. За три года службы во флоте сильно изменился украинский хлопец. Окончив школу комендоров, он помогал устанавливать на «Очакове» дальнобойные орудия. Специально для этого выписали в Севастополь мастеров с Путиловского завода. Знакомство с рабочими, да еще какими — из самого Петербурга! — перевернуло душу Самсона. Путиловские специалисты внушали ему глубокое уважение знаниями и умной силой, которая позволяла им создавать такие чудовища, как дальнобойная пушка, и управлять ими.
Путиловцы охотно просвещали любознательного матроса, рассказывая не только о механике, но и о жизни. Дружба и взаимное доверие так выросли, что путиловцы частенько приносили ему прокламации, от которых в голове гудело, а сердце восторженно сжималось. Забираясь потихоньку в орудийную башню или в снарядное отделение, матросы читали революционную литературу.
Хотя все знали склонность Антоненко к шуткам, Карнаухов подхватил этот излюбленный у моряков тон:
— Брось травить!.. Волы… при чем тут волы? Сегодня суббота, и ты замечтался сходить на берег навестить какую ни на есть кухонную администрацию…
Кто-то фыркнул, а Самсон слегка смутился и стал оправдываться:
— Ни, я, братцы, женатый. А що до берега, так цэ ж воля Чухны. Теперь вин нас почухае… Мы знаемо, як вин чухав матросив в Балтийском море.
Гладков остановил разошедшихся ребят и приступил к делу. Откуда-то из тайников отсека он извлек листок и начал читать, медленно, тихо, почти по складам:
— «Во всех концах России рабочие восстали на борьбу. В Москве и Варшаве, в Саратове и Риге, в Ревеле и Вильно, в Екатеринославе и Ковно, в Гомеле и Юзовке и других городах рабочие тысячами бросали работы, заявляли о своем сочувствии петербургским рабочим, о своей готовности к решительной, энергичной борьбе… Неустанно, не покладая рук, должны мы готовиться ко дню окончательной схватки с самодержавием. Только народная республика даст возможность свободно вздохнуть русскому народу».
Гладков прочитывал фразу, потом поднимал глаза на товарищей, как бы спрашивая: видите, братцы, до чего дело дошло?.. И каждый из присутствовавших отвечал ему взглядом молчаливого одобрения, которое могло означать только одно: ничего, браток, и мы быстро подведем пластырь под пробоину, за нами дело не станет.
Тогда Саша Гладков еще медленнее и торжественнее прочитал последнюю строку заветного листка: «Российская социал-демократическая рабочая партия. Крымский союз».
IV. «Бронированная» женщина
Везет. Клево, как говорят матросы. Переводят в Севастополь. В резерв. Шмидт обрадовался переводу. Во-первых, он будет рядом с сыном, Женей, который учится в севастопольском реальном училище. Бедный мальчик, лишенный матери… Не слишком ли жестоко оставлять его и без отца? Потом — библиотеки, знакомые, кипучая жизнь столицы Черноморского флота.
С сыном и денщиком Федором Петр Петрович поселился в маленькой квартирке на Соборной, 14. Скромный флигелек во дворе, снятый за сравнительно недорогую цену, имел много преимуществ. Стоял он на горе. Внизу со всех сторон море, бухты, далекий рейд, сливающийся с небом. Тихо, никаких магазинов, никакой суеты. А через несколько минут ходьбы — Графская пристань, и Морское собрание с библиотекой, и севастопольский центр.
Особую ценность для Шмидта представляла библиотека. В Измаиле его раздражала оторванность от книг, газет, от всего, что волнует страну. Забастовки, волна за волной прокатывавшиеся по российским просторам, снова привлекли его внимание к рабочему классу. Никогда еще не проявлялась так наглядно роль этого класса в общественной жизни. Центральная, ведущая ось, больше того — мотор. Останавливается мотор — замирает жизнь. И все эти громоздкие и пышные надстройки власти и общества — всевозможные институты, департаменты, министерства, как будто незыблемые и существовавшие извечно, — все они оказывались до смешного беспомощными, эфемерными, стоило рабочим прекратить работу.
Читать дальше