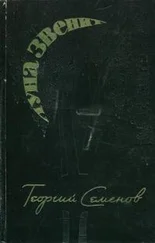— Ну ладно, — сказал он смущенно. — Не надо.
Он схватил ее руку и отвел, а она взяла эту его руку и с такой же задыхающейся торопцой, с такой же страстью сказала:
— Ух, какая у тебя волосатая рука! Как у обезьяны.
— А ты гладкая, как лягушка, — сказал ей в страшном смущении Саша и еще больше смутился, потому что Шурочка вдруг поморщилась брезгливо и сказала:
— Какой ты все-таки еще дурачок.
Николотову и теперь было стыдно вспомнить свое то смущение и те слова про гладкую лягушку, и стыд этот был каким-то непроходящим, словно бы все это случилось вчера или даже сегодня, а не много лет назад.
Потом он узнал, что мужа у Шурочки не было. Но это было уже потом, когда он вернулся из колхоза. Он сдал экзамены за девятый класс, и всех их послали на работу в колхоз. Впрочем, далеко не всех! У многих нашлись какие-то уважительные причины не поехать в колхоз.
* * *
Целый месяц он жил под Можайском, в маленькой, наполовину сожженной немцами деревушке, в одной избе со своим школьным приятелем Шориным, у которого была переэкзаменовка на осень по математике.
— Да на фига мне сдалась эта математика! — говорил Шорин. — Я все равно буду поступать в художественный… А там надо уметь держать кисть в руке и внимательно оглядываться вокруг. На фига мне эта математика!
Их не замечали хозяева, и они привыкли входить в эту покосившуюся избу с высоким, голым крыльцом без всякого стука, как к себе домой, хотя и не чувствовали себя дома в этой старой избе.
В доме жила маленькая двухлетняя девочка с какими-то вечно раздраженными, красными щечками. Она всегда за обедом сидела на коленях у матери и, вечно плача, громко кричала:
— Пупити… Пупи-ити!
— Дай ей воды-то, — говорил хозяин.
— Одну воду только и хлещет, — отвечала мать.
Хозяин ел похлебку единственной своей левой рукой, и лицо его за едой выражало всегда нестерпимое страдание. Казалось, и он готов был прокричать что-то несуразное, как его дочка.
— Пупи-ити! — кричала девочка.
А мать сосредоточенно и хмуро работала ложкой, отодвинув миску вправо от себя, подальше от дочери.
— Замолчи, — говорила она бранчливо и равнодушно.
И девочка умолкала ненадолго.
Постояльцы молча проходили в свой угол, и Шорин тихо говорил:
— Странные они люди. Как будто мы ничто для них и нет нас вовсе.
— Мало ли что, — говорил Саша. — Им не до тебя. Что ж им, раскланиваться?
— Тут разучишься говорить «здрасте». А мы ведь им помогаем.
— В том-то и дело… Мы уже разучились.
— А они ж сами не отвечают.
Ребята говорили вполголоса и очень серьезно, понимая друг друга, но совсем не понимая хозяев. Этот безрукий хозяин избы, прошедший чуть не пол-Европы, совсем не похож на победителя. Но им-то что! Война…
Шорин доставал бритву, зеркальце и алюминиевый стаканчик. Стриженный наголо, он поглаживал свои отрастающие, обмякшие уже серебристые, волосы, и если вечером в окно светило солнце, голова Шорина казалась озаренной сияющим нимбом.
— Вот бабы здесь интересные, это точно, — говорил он. — Играют, между прочим, в колечко, как дети.
Саша ложился на сенной тюфяк и задумывался. Он слышал, как хозяева кончали обедать, и слышал потом за стенкой, как жамкала свою жвачку рыжая корова и как позванивали струйки молока, стреляя в пустое, гулкое ведро, и как хозяйка ворчала на корову, переставляя с места на место ведро, и что-то ласковое приговаривала и непонятное. Струйки молока затихали, и глохли, и все туже и реже, будто пила в сыром бревне, позвякивали за стенкой.
— А ты не хочешь побриться? — спрашивал Шорин.
— Чего мне брить?
— Усы, чудак! Стоит раз побриться — дело пойдет.
Саша Николотов сильно загорел и осунулся за те июньские дни, совсем провалились щеки. Губы казались черными в сумерках. И пушок над губой тоже черным.
— Куда сегодня? — спрашивал Саша, возвращая зеркальце. — Опять к амбару?
— А что делать?
— Опять в колечко?
— Все ясно, — говорил Шорин. — Напрасно ты так. Мы, Сашок, с тобой идиоты, куда-то торопимся, бреем голые щеки, а они тут наоборот…
— Положим, я не брею.
— А девушки здешние молодятся.
— Все ясно, — говорил теперь Саша. — Им матерями пора, а не в колечко… Опоздали.
— А есть, между прочим, приличненькие симпампушечки.
Саша насмешливо говорил:
— Будь другом, исполни танец живота…
Голодуха избавила многих от язвы желудка, а Ленька Шорин, объедаясь жидкими овсяными супами, растянул свой желудок и теперь в минуты веселья демонстрировал порой перед друзьями свое дикое искусство: изображал беременную женщину, раздувая живот, или костлявого, ребристого аскета с темным провалом вместо живота. И было страшно смотреть на тот провал и натужную усмешку-живого человека, вытворяющего чудеса со своим животом, мышцы которого были подвластны ему, как мышцы рук.
Читать дальше
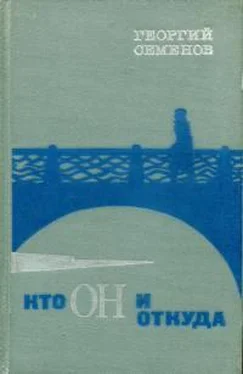

![Георгий Семёнов - Путешествие души [Журнальный вариант]](/books/73286/georgij-semenov-puteshestvie-dushi-zhurnalnyj-varia-thumb.webp)