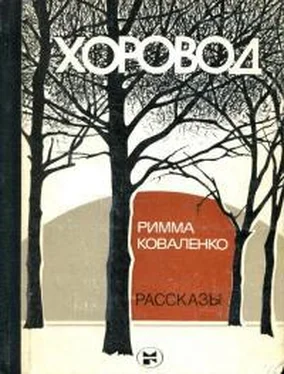— Мужчина без сигареты, что солдат без ружья. Кстати, писательница Жорж Санд тоже курила.
Этим он намекает, что догадывается, чем я занимаюсь по вечерам при свете настольной лампы. Но моя работа далека от того, чем занималась Жорж Санд, и я в ответ улыбаюсь и говорю:
— И наверное, кашляла, как старая собака.
— Разве так можно про такую женщину? — Волков качает головой, стыдит меня словами и взглядом. И возвращается на свой круг. — Значит, не хотите постичь мою теорию о переходе диких животных на овощную пищу?
— Уже постигла, спасибо.
— Тогда я вам прочитаю стихотворение. — И читает главу из «Евгения Онегина».
Я возвращаюсь к себе с чувством, что совершила что-то хорошее, пообщалась с человеком, которого все обходят.
Но все эти разговоры — и с Васильковой, и с Волковым — только усугубляют мое одиночество. Что-то мне не дает принять этот мир с его неспешными старческими фигурами на дорожках, с незыблемым ритмом завтраков, обедов и ужинов, а главное, с какой-то особенной, неизвестной мне доселе, тишиной. Не могу привыкнуть к тому, что никто нас не тормошит, ни к чему не призывает, не торопит. Мы живем на свете, и этого достаточно. Конечно, прошлое у многих здесь богатое, и сейчас не у всех порвана связь с внешним миром: приезжают ведомственные лимузины, кого-то увозят на встречи, в президиумы праздничных залов, к другим наведываются ученики с рукописями под мышками, кого-то увековечивают на киноленту, и не только в утилитарно-воспитательных целях, как Клинского. И все-таки не могу отделаться от ощущения, что здесь у всех обитателей новая, совсем иная жизнь.
Здесь я услышала, что тревога — болезнь старости. Сказал все тот же Волков. Когда он отвлекается от своих биологических теорий, то говорит умно и интересно. Я поверила ему. В тот же вечер, как только стала накатывать на меня тревога, которая всегда была замешена на сердечной боли, обиде и страхе, я сказала себе: «Болезнь. Приступ. Изволь с этим бороться». Поднялась, набросила платок на плечи и вышла из номера. Фонари на столбах освещали участок пансионата, лес казался нестрашным и нереальным, как в мультфильме. Я прошла к центральной аллее и увидела, что дорога, ведущая в деревню, тоже освещена фонарями. И пошла по дороге. Была теплая майская ночь. Справа от дороги светился огнями хозяйственный двор нашего пансионата — котельная, гараж, мастерская. По асфальту этого двора двигалась мужская тень и разговаривала сама с собой. Я догадалась, что это сторож. Подошла поближе, прислушалась.
«Подумаешь, тысяча рублей, — бормотал он, — да я ее тебе достану хоть завтра. Почему это у меня не может быть тысячи? Могу поспорить…»
Все это звучало без ругательств, без пьяных ноток, и я, послушав его, окликнула. Мужчина приблизился, не старый, чуть за пятьдесят. Но здесь, в деревне, я это уже заметила, все они спешат выглядеть старше. И этот тоже: зимняя шапка по глаза, валенки с галошами, плечи подняты, будто ежится от холода.
— Кто ж такая, — спросил, — из этих?
— Из этих, из этих. А вы здесь работаете?
— Сторожую. А вы в деревню неужель направились?
— Сама не знаю. Вышла и пошла.
Ответ его развеселил.
— А я вот тут. Люди спят, а я песни пою.
— Песню не слышала. Разговаривали вы с кем-то про тысячу.
— С Васькой говорил. Сродный брат жены. «Запорожца» старого хочу у него купить за тысячу. А он не верит, что есть у меня деньги.
— А они есть?
Он задумался, ответил не сразу.
— Двести рублей есть. У Марты, у жены, еще триста припрятано. Надо бы к ним столько же — пятьсот. — Он сверкнул в мою сторону острым насмешливым взглядом. — Не одолжите?
Так это было все фантастично: ночь, фонари и этот сторож, разговаривающий сам с собой, что я не стала ни его, ни себя разочаровывать.
— Одолжу. На какой срок?
Вопрос не застал его врасплох.
— На два года. Буду отдавать по двадцатке в месяц.
Мы договорились, что завтра я принесу ему деньги. Днем съезжу в райцентр, в сберкассу, а вечером вручу их ему. Уходя, спросила:
— Где же ваш свояк Василий, с которым вы разговаривали?
— Где же ему быть? Дома спит.
Утром я вспомнила свой ночной альтруизм и расстроилась. Ни имени, ни фамилии человека не знаю, какой-то Васька ему не верит, а я разлетелась. Но пути назад были отрезаны, да и модная аутогенная терапия уже спешила на помощь: «Видимо, у старости не одна болезнь. Кроме тревоги, есть еще и жадность. Возьмешь у него расписку, никуда не денется, отдаст. А уж в самом крайнем случае проживешь без этих денег. Пятьсот рублей, конечно, звучит, но, с другой стороны, это всего двадцатка в месяц, обойдешься».
Читать дальше