Ночью к городку причаливала, вставала над ним на якорь, как огромная кувшинка, луна. В речке и в озере бесчинствовали, веселились лягушки. Пахло свежими травами, дули ночные ветерки, гасли в домах огни — окно за окном, — до полного всеобщего покоя. В этом городе была поразительность добра, открытости характеров и какой-то согласованности, всеобщности. Он был искренен, природен. Он был постоянной величиной. И в нем было все, чтобы такой постоянной величиной остаться, чтобы сохранить, уберечь свою неизменчивость, свою, может быть, наивную прямоту и надежду. Артем вспомнил слова Ситникова: молитва — это безмолвие. Артему нужно было сейчас безмолвие.
Уже дважды Артем решал ехать в Ратный Двор и перерешал или недорешал, не знает. Постыдно сидит дома, мучает себя, мучает других. Тамара волнуется. Волнуется Геля. Его любимым занятием стало что-то вспоминать: детство, юность. Когда мы несчастны, слабы, выпали из жизни или просто забыты, мы любим вспоминать углубленно и одиноко. Юность — это возмездие, как заметил Ибсен. Время ушло, силы, настроение ушло. Сидит, оправдывает безделье. Перелистывает себя туда и сюда, не знает, на какой странице остановиться. Володя Званцев утверждает — вы, Артем Николаевич, уже здоровы, совершенно здоровы, постыдно здоровы.
В кабинет вошла Геля в халате и в прозрачном клеенчатом колпачке: будет принимать душ.
— Папа, письма.
Положила перед ним письма.
— Что тебе в жизни интересно? — неожиданно спросил он.
— Мне? — Геля напряглась.
— Да. Тебе. — Отец смотрел на нее устало и, как показалось Геле, с раздражением.
— Папа, ты сейчас будешь несправедлив.
— Убеди меня в этом.
— Я не актриса, или так: плохая актриса. Ты прав, — вдруг сказала Геля. — Если бы не ты, меня бы давно выгнали из театра.
Геля удивительно была похожа на него. Геля — это он. Как он раньше не догадался!
— Папа, я тебя ни в чем не обманываю. И никогда не обманывала!
Он сказал:
— Я эгоист с тусклыми мыслями.
Геля присела на подлокотник кресла, обняла отца.
— Все пройдет, вот увидишь. Ничего мне не нужно — ни театра, ни успеха. Я рожу тебе внука.
Артем не предполагал, что простые слова дочери могли возыметь на него такое действие. Оказывается, есть в его семье такие простые слова. Он все больше убеждался, что Геля — это он. И она рядом с ним, как это было и в клинике. Совсем уже самостоятельная. Окончательно.
В коридоре раздался звонок. Геля встала с подлокотника кресла. Пошла в коридор, глянула на себя в зеркало, сняла с головы колпачок, открыла дверь.
Перед Гелей стояли Володя и старик Нифонтов. Геля поняла, что это и есть Володин план и он уже в действии. Подходящее ли время?
Геля вернулась к отцу:
— К тебе Володя.
О старике Нифонтове ничего не сказала — пускай скажет сам Володя. Убежала в ванную.
Накануне Володя был у Саши, имел с ним беседу.
— Требуется Гиппократ.
— А точнее?
— Твой старик. Уговори поехать со мной в один дом.
— Не поедет. Куда, собственно?
— К Гелиному отцу.
— Зачем?
— Надо.
— Дед человек трудный. Может и обидеть. Его надо понимать.
— Они подходят друг другу.
— Попробую.
— Очень рассчитываю на твоего старика — сверхприродная сила, первоатом.
Переговоры со стариком закончились быстро и успешно, потому что старик решил кое-что на свой лад.
Теперь они вдвоем стояли перед Йордановым на пороге его комнаты.
— Извините, что без предупреждения, — сказал Володя.
Артем смотрел на старика Грана. Его внешность поражала.
— Мне хотелось, чтобы вы встретились, — Володя показал на Грана Афанасьевича и на Йорданова. Чтобы снять некоторую неловкость, добавил: — Моя интрига.
Артем Николаевич и Гран Афанасьевич пожали друг другу руки. Артем усадил старика в кресло, сам сел за свой стол. Помолчали..
Гран Афанасьевич медленно обвел взглядом книжные полки, сказал:
— Живете среди книг. Счастливый человек.
— Вы полагаете?
— А вы так не полагаете?
— Нет, отчего же. Стараюсь ценить это счастье. — Артем хотел, чтобы в разговоре поскорее принял участие Володя, но Володя этого делать пока что явно не собирался.
— Впрочем, я тоже счастливый человек. Позвольте взглянуть на книги?
— Конечно.
Старик поднялся с кресла и подошел к полке, на которой стояли трехтомник Данте, Еврипид, Овидий, «История» Геродота, письма Томаса Манна, Шелли, лекции Ключевского. Старик взял письма Томаса Манна. «Неужели будет говорить о литературе?» — испугался Артем. Ну никак не хотелось: старик смущал своим строгим академическим видом.
Читать дальше


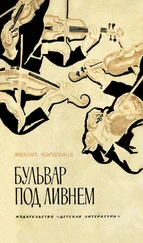
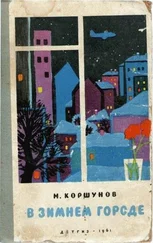




![Михаил Коршунов - Наша компания [сборник рассказов]](/books/400798/mihail-korshunov-nasha-kompaniya-sbornik-rasskazov-thumb.webp)
