— Рюрик!
— И драматургия спасена.
— Рюрик, вы…
— Шиза.
— Гм.
— Это не вы сказали, Лев Иванович, это я сам сказал. — Рюрик помахал рукавами своей блузы. — Пора умолкнуть и уходить, ибо умолчанием называется неоконченный разум в слове. Жаль, что товарищ Мейерхольд многое сделал до меня.
Рюрик и Леня вышли из кабинета Астахова. Рюрик тут же потащил Леню в кофейный зал — вдруг там Мезенцев. Мезенцева не было. В кофейном зале сидела Надежда Чарушина в шевровой юбке и в почти мужской рубашке. На шее — легкий шарфик с брошью работы палехских мастеров. Рядом с ней сидела жена Буркова Людмила Александровна в костюме цвета давно завядшей герани и в огромном, отстающем от шеи, полосатом галстуке. В смысле одежды Людмила Александровна виртуоз похлестче, чем Пытель. Бурков, очевидно, где-нибудь занят в клубе, и Людмила Александровна сидит, ждет его: любимое занятие некоторых жен — караулить мужей.
Чарушина, как правило, проводит время в клубе в маленькой угловой гостиной на втором этаже. Нравилось писать в этой гостиной стихи. Днем — угловая гостиная всегда свободна, вечером — в ней проводятся заседания, творческие встречи. Надежда любила клуб. Ей хорошо здесь писалось в привычном, устоявшемся для нее ритме. Я руку протяну, чтобы нащупать нужную строфу. В лице моем рассвет, а значит, и строфы рожденье. Я зачерпну поток стиха — не мучь меня, мое стихотворенье. Самое трудное добиться соответствия, соответствия между тобой и словом, твоим будущим стихом. Мы вместе на снег глядели, потом ты сказал: «Прощай!» Дано ли мне будет найти смешливые щеки мои в этом белом пейзаже лжи.
В привычной гостиной Чарушина добивается соответствия, как ей кажется, находит «цветущую провинцию своего поэтического царства». Испытывает счастье. Она дома здесь, в своем царстве.
Чувство дома, своего поэтического царства, все и решает, предопределяет. Если это чувство потеряно — потеряна удача, гармония формул и звуков, гадательность.
Потом Чарушина спускается из угловой гостиной в кофейный зал пить кофе. Завершение ее рабочего дня. Последние с кем-нибудь беседы, последние встречи, последняя выкуренная сигарета. Может быть, дорогу преградит Вадим Ситников. Чарушиной он необходим, необходима его язвительность. Его слова всегда заставляют задуматься, проверить написанное. Вадим часто обижает, но он всегда настораживает. В его душевной разорванности, потерянности, одичалости скрываются странные истины, пугающие многих. Пугает Ситников специально, защищается от окружающих, от повседневности. Чарушина его никогда не пугается. И он это знает. Бывает с Чарушиной, чаще чем с другими, естественным, нормальным.
— Надя, — обратился Рюрик к Чарушиной, — влюбите в себя гражданина по имени Виталий Лощин.
— Зачем? — Чарушина не спеша курила сигарету.
— Сам по себе он никогда не погибнет.
Чарушина подняла палочку мундштука. Дым нитью устремился к потолку, завязался в забавный вензель. Чарушина молча смотрела на вензель, будто пытаясь его понять. Рюрик разогнал дым, помахал опять же рукавами своей блузы.
— Сотворите персонально для меня, Надя.
— А вы персонально меня оставите в покое?
— За мной не пропадет.
— Подумаю.
В зале клуба показался Вельдяев с несчастным лицом. Жизнь печально гнала этого человека по одному и тому же кругу, с каждым годом измучивая его еще больше и окончательно лишая возможности сделать хотя бы одно-единственное в жизни дело — написать работу о Бунине.
— Надя, струны ваших скифских глаз…
— Боже, Рюрик…
— Да. Во мне этоГО есть. Шарм.
Рюрик поклонился Бурковой.
— Людмила Лексанна, мы туточки озорничали словами, так не берите всерьез. Простокваша, знаете ли.
Друзья медленно шли по улице.
— Не к Йордановым ли опять навострился Лощин? Он у меня жить не будет. Слушай, давай повалим за этой лошадью. Узнаем только. Где ее взять?
— Рюрик, нам дадут, в конце концов, по пятнадцати суток.
— Нет, не с тем автором я работаю.
Время для Гели вело отсчет дней — театр, съемка фильма и, конечно, Виталий Лощин, который все настоятельнее утверждался в доме. На покровительство мамы он пытался ответить заботой о Геле. Не ухаживал, это он прекратил, но старался помочь в чем угодно — подгонял такси, если Геля опаздывала на съемку, встречал, если она задерживалась на съемках и поздно возвращалась, покупал билеты на выставки и вернисажи, на которые Геля не ходила, где-то доставал для нее косметику, потому что уже знал номер ее помады и любимую краску для век. В общем, пользовался случаем, что Рюрик насквозь был занят Волковым. «А может, и не только Волковым», — думала Геля, но в то же время понимала, что это с ее стороны, наверное, несправедливо по отношению к Рюрику. С Лощиным Геля не знала, как быть, что лучше — когда Лощин пытался ухаживать или когда он вот так помогал. Но был у Гели теперь и ее собственный, изолированный от всех мир — работа в кино. Каждый съемочный день доставлял подлинное удовлетворение, потому что это был ее собственный день, принадлежал только ей. Геля не торопилась домой. Что ждало дома? Что хорошего? Она с удовольствием приезжала в цех на съемку. Она ничего и никого уже не боялась — ни пальбы электродов, ни всплесков кислородных искр, ни разъезжающих под потолком мостовых кранов, ни кассиршу в столовой, хозяйку ножей, ни режиссера, ни даже Кипреева. Партнер из Казани попытался было приударить за ней. Худенький и спокойный Миша сказал, чтобы она этого баритона навялила горячей лопатой, если потребуется. Но подобного не потребовалось.
Читать дальше


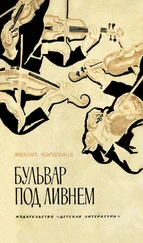
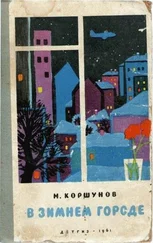




![Михаил Коршунов - Наша компания [сборник рассказов]](/books/400798/mihail-korshunov-nasha-kompaniya-sbornik-rasskazov-thumb.webp)
