— И вы никогда больше не встречали ни русского артиллериста, ни эстонца, ни доктора?
— Никогда, — сказала старушка, поглядев на меня сквозь полуопущенные веки как бы сверху вниз, и выражение лица у нее сделалось горделивое. Потом мы отступали. Нас гнали немцы, мы попали в Россию, и знаете, что меня удивило? То, что Россия такая же, как Финляндия. Я доехала до города Пермь, там заболела инфлюэнцей…
В другом доме старик в просторном, с широкими плечами черном пиджаке старик, вероятно, сдал за последние годы, и пиджак стал великоват рассказывал:
— Потому что немцы, которые шли от Ловизы, атаковали по двум направлениям — на Лахти и Котку. Подошли к Котке очень близко. Там есть старая крепость. Все красногвардейцы собрались в крепости и решили дать бой. Вечером пятого марта немцы атаковали Котку, мы их отбили. Помогала нам русская батарея с острова. Сражение длилось полтора часа. Немцы быстро удалялись, а финны стали их гнать, но медленно. Тут сказалась медлительность финнов. Мы гнали их до Ловизы…
Я вспомнил: летом двадцать седьмого я жил в Ловизе. Там была дача. Все было, как в Серебряном под Москвой: бревенчатый дом, дух смолы, некрашеных досок, хвои, песок, солнце и я, млеющий от блаженства и страха на солнцепеке перед бездной окна. Отец держит меня не знающей пощады рукой. Я хочу вырваться и прыгнуть в сияние, в тепло. Он не пускает, я капризничаю, он держит крепко и думает, почему он оказался в Финляндии? Еще год назад был в Китае с военной миссией вместе с Егоровым, будущим маршалом, пересекал пустыни, вникал в запутаннейшую войну генералов и писал о том, что видел, как всегда, сумрачно и самостоятельно, что, как всегда, было не нужно. И вот: оторван от мировой революции, от вулканического гула и брошен в тишь, в озерную благодать исклокотавшейся и полусонной страны, в разговоры о кредитах, ассигнованиях, конвенциях, одни из которых следовало поощрять, другие душить. Но разве мог отказаться? С шестнадцати лет, с 1904 года, привык не отказываться ни от чего. Еще недавно ходил в сапогах, в удобнейших галифе, в кителе, а теперь — фрак, жесткие воротнички, тесная обувь. Все незаметно и стремительно удалялось от того, что было вначале. Но я не понимал этого и рвался, плача, за грань окна.
Наш дом на Альбертсгатан не существовал: был разбит бомбой в сорок первом году.
Накануне отъезда я выступал в самом большом в Финляндии книжном магазине «Стокман» перед случайными покупателями, а может быть, моими читателями — их было довольно много, они стояли молчаливой, настороженной, очень финской толпой на первом этаже между прилавками и наверху, за балюстрадой, впереди расположились на стульях старушки, пришедшие за час до начала, как они приходят к «Стокману» постоянно на все встречи со всеми, я сидел на крохотной эстраде вместе с профессором Пессоненом, который что-то обо мне говорил, а рядом на столике громоздились бесстыдными стопками мои книги на финском и шведском, весь вид которых жалко призывал к тому, чтобы их покупали, особенно обреченным выглядело дорогое шведское издание «Нетерпения», эту книгу купил и верно лишь один человек, — и вот в конце выступления, которое длилось, как все выступления у «Стокмана», ровно тридцать минут, и когда к моему столу потянулась жидковатая очередь людей с книгами, они молча их подавали, я молча подписывал, вдруг женщина наклонилась и тихо по-русски сказала:
— Я читала статью в газете. Моя мама работала в посольстве. Она знала вашего отца.
Я посмотрел на женщину, пораженный. В Москве не осталось людей, которые знали отца.
— Сколько лет вашей маме?
— Ей за девяносто. Но она еще хорошая, много помнит. Если у вас есть желание и время…
Я оказался в квартире среднего кооперативного облика, вроде какой-нибудь квартиры вблизи «Аэропорта». В прихожую вышла прямая сухонькая старушка с орлиным носом и тоже орлиным, неподвижным и внимательным взором и, протянув невесомую руку, сказала:
— Как приятно поговорить с русским человеком.
Возможно, она говорила это всем русским, которые ее посещали. Я подумал: Финляндия, конечно, похожа на Россию, но все же другая страна. И русские, которые тут живут, не похожи на нас. Такого орлиного, неподвижного и внимательного взора я не замечал у наших старух, хотя, может быть, я ошибаюсь. Девяносточетырехлетняя Елена Ивановна работала кастеляншей в посольстве, потом перешла в торгпредство, где проработала пять с половиной лет. В ее ведении находились двадцать две уборщицы, мебель, вещи. Кляузная работа! Финны очень гордые. С ними трудно работать: не терпят замечаний. Муж Елены Ивановны был финн, социал-революционер, жили в Петрограде, потом мужа арестовали, он сидел в тюрьме в Гельсингфорсе, и в 1920 году она поехала туда из Питера вместе с детьми. Поездка вышла ужасно тяжелая. И в Гельсингфорсе жить было тяжело. После первой войны повсюду был кризис. Муж, между прочим, работал одно время с Эйно Рахьей…
Читать дальше
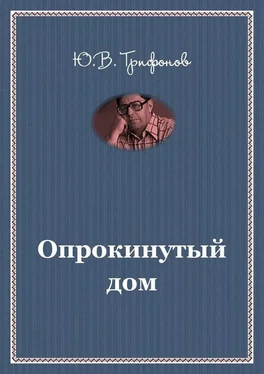


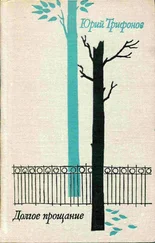

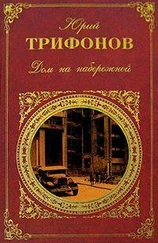
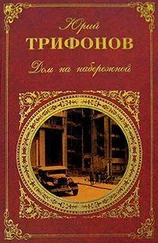
![Юрий Трифонов - Дом на набережной [litres]](/books/416227/yurij-trifonov-dom-na-naberezhnoj-litres-thumb.webp)



![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)