Юрий Трифонов - Предварительные итоги
Здесь есть возможность читать онлайн «Юрий Трифонов - Предварительные итоги» — ознакомительный отрывок электронной книги совершенно бесплатно, а после прочтения отрывка купить полную версию. В некоторых случаях можно слушать аудио, скачать через торрент в формате fb2 и присутствует краткое содержание. Жанр: Советская классическая проза, на русском языке. Описание произведения, (предисловие) а так же отзывы посетителей доступны на портале библиотеки ЛибКат.
- Название:Предварительные итоги
- Автор:
- Жанр:
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг книги:5 / 5. Голосов: 1
-
Избранное:Добавить в избранное
- Отзывы:
-
Ваша оценка:
- 100
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Предварительные итоги: краткое содержание, описание и аннотация
Предлагаем к чтению аннотацию, описание, краткое содержание или предисловие (зависит от того, что написал сам автор книги «Предварительные итоги»). Если вы не нашли необходимую информацию о книге — напишите в комментариях, мы постараемся отыскать её.
Предварительные итоги — читать онлайн ознакомительный отрывок
Ниже представлен текст книги, разбитый по страницам. Система сохранения места последней прочитанной страницы, позволяет с удобством читать онлайн бесплатно книгу «Предварительные итоги», без необходимости каждый раз заново искать на чём Вы остановились. Поставьте закладку, и сможете в любой момент перейти на страницу, на которой закончили чтение.
Интервал:
Закладка:
Он уставился на меня обалдело. «Какой кикиморы?» — «Но ты ведь называешь тетю Наташу кикиморой?» И тут я увидел, как лицо моего сына мгновенно и на глазах — как светочувствительная бумага — покрывается темной краской, начиная с ушей. «Ты читал дневник? — вскрикнул он. — Как же ты мог…» Его лицо исказилось, глаза сузились, я увидел бешеное презрение, и это был его истинный взгляд. Разумеется, я объяснил ему, что не «как же я мог», а «как же он мог» — писать так гнусно о своей тетке, родном человеке, который его искренне любит. Я говорил очень взволнованно. Рита пришла из своей комнаты и стояла молча. Хотя отношения у нас были натянутые, она не пыталась взять сторону сына, который не слушал меня и только повторял, качая головой: «Эх, ты… Эх, ты…» Наверное, ей было неприятно. Но тот не понимал ничего. По-видимому, был сражен тем, что я мог прочесть его глупости по поводу А. и О. Наконец Рита раскрыла рот и произнесла укоризненно: «Кирка, действительно, как ты мог написать такую вещь?»
Я сказал: «А ты не удивляйся. Он написал то, что ты говоришь вслух». Конечно, был возглас протеста, оскорбленное лицо и мудрый, педагогический вывод: «Кирилла я не оправдываю, но тон твоего разговора меня возмущает!» После этого она ушла. А Кириллу только того и нужно. Он сказал, что я всех оскорбляю, и его и мать, что у меня самого нет совести, если я читаю дневники. Но я закричал, что у меня есть право отца. Что пока ему нет восемнадцати, сопляку, я обязан знать, чем он живет, его личную жизнь, всю его подноготную, потому что несу ответственность за него, а после восемнадцати — может катиться на все четыре стороны, пожалуйста, не возражаю. «Я тоже не возражаю», — пробурчал этот наглец. «Но сейчас, когда я вижу подлость, — гремел я, — я не намерен давать тебе потачку!» — «Я тоже, если увижу подлость…» Вот так мы пререкались скандально, базарно — с каждой минутой я все более ощущал свое бессилие, — и потом он сказал фразу «производишь муру», после чего я его ударил, ладонью по губам, и он убежал. Сначала в свою комнату, потом — из дому.
Он исчез на сутки. Это были, наверное, самые кошмарные сутки в моей жизни. Потому что я казнил себя и терзался. И Рита, конечно, не умолкала, но ее беснования меня не трогали. Я просто отупел от ужаса, от того, что я себе представлял и в чем видел виновником себя, одного себя, несчастного идиота, неврастеника, — подумаешь, распустил руки, назвали сестру кикиморой! Ну и что? Устраивать из-за этого допрос, мордобитие, так унижать и оскорблять парня? В третьем часу ночи дежурный по городу сообщил нам, что в Коптеве найден труп юноши лет семнадцати, зарезан ножом. Не было ли на нашем мальчике меховой шапки и кожаной безрукавной кацавейки на меху? Меховая шапка была! Была! Но кожаной безрукавной кацавейки не было. Он мог взять кацавейку у товарища. Мог зачем-то поехать в Коптево. Вызвали такси, помчались в Коптево, на другой конец города. В машине Рите сделалось плохо, остановились, я массировал ей сердце, шофер побежал за лекарством — в медпункт Белорусского вокзала. В морг Коптевской больницы я пошел один, Рита осталась в машине. Хотя я был совершенно уверен в том, что наш мальчик не мог очутиться здесь, ноги мои подгибались, когда я спускался по лестнице в узком каменном коридоре. Юноша был черноволос, один глаз открыт, другой заляпан черной кровяной коркой. Мы приехали домой в пятом часу.
В семь он позвонил и сказал, чтоб мы не волновались, что он у девочки на даче, здесь нет телефона, поэтому он не сообщил вовремя, виноват, excuse me. А сейчас звонит со станции. «Ты не пойдешь на контрольную?» — с внезапной и, как обычно, изумившей меня трезвостью спросила Рита. «Нет, пока!» Это «пока» было сказано залихватски, этакое веселенькое, забубенное — однова живем! — затем щелк, трубка повешена. Рита тихонько плакала, а я сидел в кресле, закрыв глаза, и видел рассветную тьму на станции, будку автомата, промерзшую, как погреб, запах гари и низкую, над лесом, луну. Двое бегут на лыжах: сначала по лыжне вдоль путей, потом сворачивают в лес. За калиткой их встречает собака, на даче тепло, в печке горят березовые дрова — впрочем, это из моей юности, на даче у «девочки», наверное, батареи водяного отопления, топят углем или газом. Все было когда-то и у меня. Какие там контрольные! Он про отца-то, раскровенившего губу, и думать забыл…
Моя необходимость отпала. Это было ясно. Ну — деньги, кормежка, билеты на джаз, полезные знакомства, это само собой. Некоторое волнение, когда мне бывает плохо. «Папа, тебе дать что-нибудь? Нет?.. Ну, я побежал! У меня деловая свиданка. Ты лежи, не вставай». А что еще нужно? Один приятель, папаша моего возраста, сказал: «Скажи спасибо, что он тебе не ответил крюком слева в печень. Мой однажды меня нокаутировал». Наверное, все нормально, но я просто не знаю этого: когда я был в возрасте Кирилла, у меня не было ни матери, ни отца. Мать подолгу болела, месяцами в санаториях, отец погиб в тридцать девятом на Карельском перешейке, он был военный инженер. Воспитывала, тянула изо всех сил старшая сестра, Наташка. Из-за меня, может быть, и осталась «кикиморой». Откуда мне знать, нужен ли парню отец, когда у парня рост метр восемьдесят, канадская стрижка, бас, когда он может три часа танцевать без устали, прочитать за день целиком английский детективный роман и подойти на улице к любой девушке и взять у нее телефон?
Читать дальшеИнтервал:
Закладка:
Похожие книги на «Предварительные итоги»
Представляем Вашему вниманию похожие книги на «Предварительные итоги» списком для выбора. Мы отобрали схожую по названию и смыслу литературу в надежде предоставить читателям больше вариантов отыскать новые, интересные, ещё непрочитанные произведения.
Обсуждение, отзывы о книге «Предварительные итоги» и просто собственные мнения читателей. Оставьте ваши комментарии, напишите, что Вы думаете о произведении, его смысле или главных героях. Укажите что конкретно понравилось, а что нет, и почему Вы так считаете.


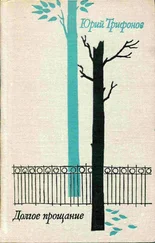



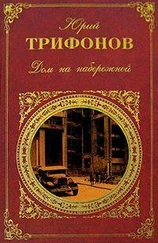
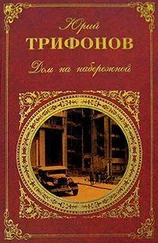



![Юрий Трифонов - Бесконечные игры [киноповесть]](/books/422559/yurij-trifonov-beskonechnye-igry-kinopovest-thumb.webp)
