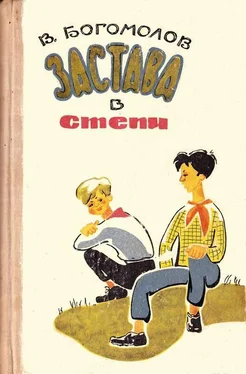Генка снова поднял голову и уточнил:
— Я только раз ударил. Он, как сайгак, убежал, а то бы я ему дал…
Учителя осуждающе покачали головами и зашептались о том, что… нет, Синицын неисправим и, в конце концов, плохо кончит…
А мы всем классом сидели здесь же и переживали за нашего боцмана. Ну почему он такой упрямый, не хочет рассказать честно, за что ударил Грачева, как разбил стекло? Не так же просто, за здорово живешь… И главное, такие приключения происходят с ним тогда, когда меня нет рядом. Я посмотрел на Генкиного отца, который сидел, положив больную ногу на бадик, и посасывал кончик черного уса. За все время педсовета дядя Федя не сказал ни слова. И как-то трудно было понять по выражению его лица — осуждает он или одобряет поведение сына.
— Грачев, Вова, может, ты что-то скрываешь? — переключилась Фаина Ильинична на пострадавшего. — Может, между вами прежде что-нибудь произошло?
— Нет, кажется, нет, — поморщил большой лоб Грачев.
— Когда кажется, надо креститься, — посоветовал ему Коля Попов и пригладил непослушные вихры своей знаменитой канадки.
— Попов, — вмешался директор, — это не педагогично, ты не на палубе. Не дезориентируй, пожалуйста, заседание. Ну, Синицын, я тебя в самый последний раз спрашиваю: будешь честно рассказывать?
Генка молчит, как тургеневский Герасим.
— Гена, может, ты не рассчитал траекторию полета кирпича, — поспешила на помощь математичка, — и случайно попал в окно?
— У меня в институте был аналогичный случай, — оживился историк.
Николай Андреевич посмотрел на него так, словно тот на похоронах вспомнил веселый анекдот.
Историк смутился и сказал:
— Ну, не совсем аналогичный… Это я к тому, что жалко парня. В принципе ведь славный малый. И способный. Недавно про восстание Спартака так рассказал, что я диву дался.
— Но мы сейчас говорим не о достоинствах Синицына, — заметила Фаина Ильинична.
— Вот именно, — поддержал ее директор. — Прошу дать оценку поведению Синицына.
Один за одним поднимались учителя и говорили о том, что Генка поступил нехорошо, и его надо строго наказать. Фаина Ильинична предложила послушать Федора Федоровича.
Федор Федорович вынул изо рта кончик уса, расправил его большим пальцем и сказал:
— Опозорил ты, Генка, нас с матерью. Но вы не волнуйтесь, Николай Андреевич, стекло я завтра вставлю, а ему гайки прикручу.
— Но вы не очень-то, Федор Федорович, — приподняв очки, настороженно поглядел на него директор.
— Да нет, что вы. Мы с ним без кулаков — по-мужски договоримся.
Потом выступили Тарелкина, Саблин, Киреева и я. Мы говорили о нашем боцмане как о хорошем товарище, просили педсовет не исключать Генку. Коля Попов тоже просил оставить Синицына и обещал разобрать его проступок на сборе отряда. Педсовет вынес Генке самый последний выговор, а Николай Андреевич предупредил его, что если он допустит хоть малейшее нарушение дисциплины, ему не помогут ни товарищи, ни общественность.
На том мы и разошлись по домам. Генка ушел с отцом, Вовка пошел проводить домой Лену и Свету, Миша, о чем-то размышляя, остался возле большой карты нашего маршрута. Я возвращался один. Не хотелось думать ни о чем, кроме одного: кто же теперь первым войдет в Братск? Потом мне надоело думать об этом, и я запел наш гимн:
Здесь у самой кромки льдов
Друга прикроет друг.
Друг всегда уступить готов
Место в шлюпке и круг.
И вдруг навстречу мне поплыла та же песня. И голос такой знакомый. Ну, конечно, это Генка. Пел он радостно, как в тот вечер, когда мы только что выучили ее.
Друга не надо просить ни о чем,
С ним не страшна беда.
Друг мой — третье мое плечо,
Будет со мной всегда.
Я побежал навстречу боцману. Уже обнявшись, мы повторили:
Друг мой — третье мое плечо,
Будет со мной всегда.
Последний куплет мы не стали петь, потому что он про любовь. Мы его просто просвистели, подражая артисту Олегу Анофриеву.
Только потом я спросил:
— Ну, что отец?
— Порядок, капитан. Отец разрешил мне переночевать в твоем салоне.
Так мы называли наш сарай, где с весны хранили все судовые принадлежности: журнал, карту маршрута, компас, книжки о военно-морском флоте, альбом с газетными вырезками про моряков… На верстаке стояла банка с молоком, на тарелке лежало несколько оладьев. Мы по-братски разделили ужин и блаженно развалились на широком матраце, набитом душистым сеном. В темном углу верещал сверчок, за стеной вздыхала соседская корова, ветерок лениво раскачивал на ржавой петле незакрытую ставню.
Читать дальше