— Как же получилось, что ты осталась без своего угла?
— Все было, да сплыло. Муж был. Молодой, красивый, ладный. Забрали его в самом конце войны. В первом же бою сложил голову. Вот как не повезло! Одно только письмо и прислал с передовой. Перед боем написал. Ночью. Я его и теперь перечитываю. Я Сеню любила, когда вышла за него замуж, а теперь в тысячу раз больше люблю. Мужиков много прошло через мою жизнь, а муж был один-единственный. Характер у меня — оторви да брось, физиономия не ангельская, сам видишь, нравом бешеная, а он, Сеня, сердечный мой муж, души во мне не чаял. Золотой был муж! Сперва, после похоронки, я, правду сказать, не шибко убивалась. Молодая да дурная была. И еще грудной сын отвлекал от горя. Уж как я холила маленького Сенечку, как тащила в люди! И вытащила. Ремесленное Сеня прошел. В доменщики пробился. Институт закончил. Жили мы с ним душа в душу, пока не объявилась эта… Увела, окаянная! Перекуковала, значит, она меня. Я про Катьку говорю. Пожила я с ними, с чужими, Сеней да Катькой, несколько лет, наревелась вволю, а потом взяла кое-какое свое барахлишко, мысленно попрощалась с Сенечкой: «Будь, сынок, счастлив, не поминай маму лихом» — и ушла к одинокой богомолке. Вот и вся моя история.
Она бросила потухшую папироску и тут же закурила новую.
— Смотри-ка, до чего я стала разговорчивой! Целыми днями молчу, а тут… И перед кем прорвало? Перед белоголовым мужиком, который храпит в машине. Ты что, старче, через силу работаешь? Спать дома некогда?
Не нужны ей мои слова. Самой хочется поговорить, отвести душу. Пусть рассказывает. Я спросил:
— Федора, а ты Головина, бывшего директора комбината, знала?
— Как же! Еще девчонкой познакомилась с ним.
— Как это было?
— Очень просто. Дело было зимой, в страшный мороз, в войну. Точу я снарядную головку. Одета в старенькую фуфайку, в ватные штаны. На голове артельный платок, выменянный на хлебные пайки. Надевали его только те девчонки, которые работали за станком. Друг дружке передавали, из смены в смену. Валенки тоже были артельные — на троих. Все девчонки стояли не на полу, как взрослые, а на деревянных подставках. На них ставили рабочих-недомерков, вроде меня. Малых ростом. Несовершеннолетних. Мы эти подставки называли пьедесталами. Ну, работаю я на своем пьедестале и чувствую — стоит позади меня кто-то. Оборачиваюсь, вижу — директор комбината Головин Иван Григорьевич смотрит на меня так, будто я ему родная. «Как тебя зовут, доченька?» В то время я была озорной, в карман за словом не лазила. Говорю ему, Головину: «Вот так папенька! Не знает, как зовут его дочку. Где ты был, пока я росла? Федора я». Девчонки хохочут, а я стою на своем пьедестале и спрашиваю: «А зачем вам, товарищ директор, мое имя? К ордену желаете представить? Или хлебную и сахарную премии выдать?» Девчонки опять загоготали. «Какого ты года рождения, Федора?» — пытал необидчивый директор. «Не знаю. Оплошала, не сделала зарубки на березе, в какой год и день появилась на свет». Иван Григорьевич, уходя, ни с того ни с сего обнял меня, поцеловал, будто я и в самом деле была ему родная дочь. Ну а вскоре, после того, как начались салюты в честь наших побед в Орле и на Курской дуге, пришел из Кремля Указ о награждении Федоры Бесфамильной орденом Трудового Красного Знамени. Вместе со мной получили награды и мои подружки. Вручал нам ордена Иван Григорьевич. Вот и все мое знакомство с ним. Последний раз я видела его в гробу. Провожала я его до могилы, ревела в три ручья. И теперь часто наведываюсь к нему. Постою над ним, поговорю — и легче станет…
— И о чем же ты с ним говоришь?
— Да обо всем на свете. Он же был совестливый мужик: чужую беду и чужую радость принимал близко к сердцу, как свою собственную. Теперешнему директору далеко до Головина.
— Почему? Откуда ты его знаешь?
— Знаю! Встречалась, разговаривала… Всю свою жизнь ему обрисовала: как погибли под бомбежкой в эшелоне эвакуированные отец и мать, как я поднялась на пьедестал, точила снаряды, как стала молодой вдовой, как работала после войны, как воспитывала Сенечку, как осиротела, осталась без крыши над головой. Зачем так расщедрилась? Дурак думками богатеет. Понадеялась, что Булатов выделит какой-нибудь угол. Зря старалась. Не выделил!
— Почему? Под каким предлогом?
— Предлогов у начальства невпроворот. Сказал, что не имеет права вне очереди предоставить жилье уборщице за счет тех, кто горит у комбинатского огня, — сталеваров и горновых. И еще добавил, что я должна записаться в общую семитысячную очередь и ждать. Слыхал? Для Булатова я всего-навсего уборщица. Про то, что я дочь погибших в войну рабочих людей, про то, что я жена убитого на фронте солдата, про то, что я сама была и осталась тыловым солдатом, — про все это он забыл или не хотел помнить. Я ему русским языком растолковывала, что Федора весь огонь своей жизни еще в молодости отдала комбинату, да покойному Сенечке, да еще Сенечке живому, а он все равно ничего не понял, не почувствовал. Про огонь, бедолага, талдычит, а сам без единой горячей искорки в душе живет… Ну, чего ты, белоголовый, слушаешь, все слушаешь, тянешь меня за язык, а сам про себя ничего не рассказываешь? Давай говори, что ты и кто?
Читать дальше
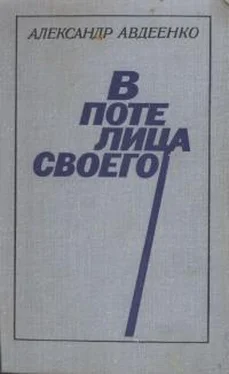

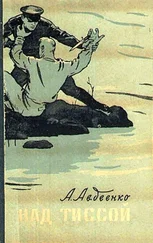


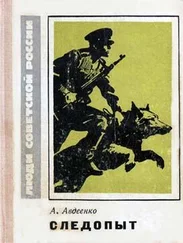
![Александра Авдеенко - Бойся своих желаний [СИ]](/books/416312/aleksandra-avdeenko-bojsya-svoih-zhelanij-si-thumb.webp)



