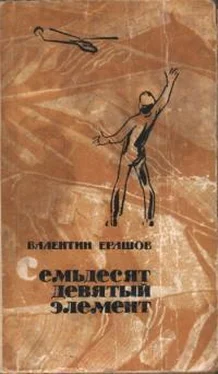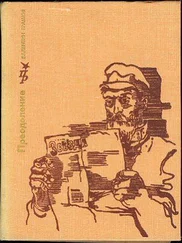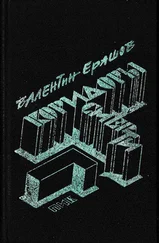Он говорит ровно и старательно, будто читает по бумажке, говорит обкатанными, чужими фразами. Я слушаю и вдруг понимаю: а ведь, наверное, он заявился из самых лучших побуждений и даже совершил поступок в некотором роде выдающийся: виданое ли дело, чтобы секретарь партийного бюро вроде бы чуть не уговаривал нас драпать, когда его прямая обязанность — удерживать от «аморалок», так он сам давеча выразился. И еще думаю: Романцов — педантично исполнительный, скрупулезно дотошный — по-своему честный человек. Он просто попал не на свое место, не туда, где мог бы развернуть способности, дарования, склонности. Для партийной работы, как я понимаю, Романцову не хватает взлета мысли, твердости воли, умения идти напролом, когда необходимо. И недостает подлинной любви к людям — требовательной, без скидок и поблажечек. Я прикидываю так, и соображаю: Романцов пришел после колебаний, он считает своей обязанностью быть справедливым и честным и хочет поступать со всей объективностью и прямотой. Ему не очень, должно быть, легко дается такая линия поведения. Становится жаль его, как ни странно. И оттого принимаюсь грубить.
— Иными словами, — говорю я, — каждый может катиться в данном случае на все четыре стороны.
— Верно, — говорит Романцов устало и твердо. — Немного резковато, но суть ухвачена.
— А если все мы покатимся? — уточняю я, злясь не то на Романцова, не то на себя.
— Так не бывает, — говорит Романцов. Он ищет аргумент и находит его, привычный и обкатанный. — В здоровом коллективе найдутся лишь единицы морально неустойчивых. Но положение такое: когда просятся по собственному желанию, административными мерами удерживать не велено. Ты разъясни ребятам, или, хочешь, я приду?
Никаких открытий Романцов не сделал. Понимаю: говорит он по-своему от души, желая нам добра.
Романцов сидел и ждал, когда я переварю сообщение, он ждал признательности, благодарности за заботу и даже за некую самоотверженность.
Молчу. Романцов поднимается, стараясь быть неторопливым. Заталкивает в карман — машинально, разумеется, — пачку моих сигарет. Идет к двери.
— Сигареты отдайте, — говорю я. — Последние.
Ложусь. Мне паскудно. Хуже не придумать. Представляюсь себе омерзительным, жалким ничтожеством.
— Марик, — зовут в окошке. — Ты спишь?
— Сплю, — говорю я. — Продолжай движение. В камералку, например.
— Не хочу в камералку, — говорит Фая. — Марик, я хочу поговорить с тобой, можно?
— Нельзя, — говорю я. — Не при галстуке и в несвежем воротничке.
— Какой ужас, — говорит Фая. — Потрясение основ.
Она говорит уже с порога.
— Хоть бы штаны, что ли, надел, — говорит она. — Начальник партии беседует с подчиненной в одних трусах. Несолидно.
Начальник партии... Будто нарочно подчеркнуто.
— Переживу, — говорю я. — Слушай, Файка, ну чего ты объявилась?
— Спасибо, Марк Владимирович, — говорит Фая. — Конечно, присяду, благодарю вас.
— Дай закурить, — говорю я. — Сигареты кончаются. Сэкономлю одну, пользуясь твоим любезным визитом. И — давай короче.
Говорю, сознавая бесполезность предупреждения: Файка, если уж заведется, коротко говорить не умеет.
Файка не умеет курить: смешно круглит губы, фукает дымком. Но все равно таскает сигареты в кармане и угощает каждого, и сама пытается мусолить сигаретки, чтобы походить на матерую геологическую волчицу...
— Что у тебя? — спрашиваю. — Почему вернулась рано?
Понимаю, что напрасно трачу слова: должно быть, Файка уже пронюхала все.
— Марик, — говорит Файка, фукая дымком, — правда?
— Правда, — отвечаю я и на всякий случай требую уточнения. — А что именно?
— Марик, — говорит она, — ну я прошу, можно ж поговорить серьезно хоть раз в жизни. — Она тычет недокуренной сигареткой в консервную банку.
— Не швыряйся куревом, — говорю наставительно, чтобы выиграть время. — Раз в жизни, так и быть, — покорно соглашаюсь я. — Если ты имеешь в виду то, что знаю я, то правда.
— Дай закурить, — просит Фая.
— Интересно, — говорю я, — откуда берется в тебе вода на это самое... слезоизвержение? Пустыня как-никак, и температура сорок два по Цельсию, восемьдесят пять по Фаренгейту.
— Не надо, Марк, — просит Фая. — Если все правда, то это ужасно, а ты еще треплешься, неужели тебе настолько безразлично?
Вертит мой карандаш, потом берет перевернутый чистой стороной листок бумаги. Один из экземпляров моего заявления. Отнимаю, откладываю подальше.
— Абсолютно безразлично, — говорю я. — Больше того: всем прочим формам человеческого существования предпочитаю землянку в расцветающей пустыне у подножия горного хребта Мушук.
Читать дальше