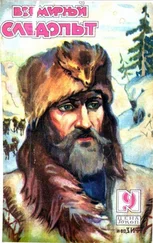— Да кто они-то, чертова ты кукла? — закричал Швырков. — Кто они, спрашиваю?
— Здравствуйте, я ваша бабушка, — изумился Миша. — Тысячу раз ему повторяю — Васька Тайшин, князь ямальский, их подослал. Сознались! Кулачье бывшее. Заводилой у них был черный шаман Халиманко с реки Юр-Ярга. А к нам пастухами нанялись. Прикинулись! Понимаешь теперь?
— Вот оно дело-то какое! — страдающе шепнул Хатанзеев. — Язва-то Васькина, оказывается. А мы-то… а я-то…
— А ты-то! «Высшую меру ей!» — хмуро съязвил Швырков. — Видал, как работают? Одним выстрелом двух зайцев убивают. Язву к нам в стадо запустили. Всю вину на Веру свалили. Ладно. Пошли. Поговорить надо, как дальше с язвой поступать будем. Не только с черной! О всяких язвах поговорим. К тебе пойдем, Ядко. У тебя поспокойнее.
— Идите. Ключ под дверью подсунут. А я сейчас.
И, не дожидаясь согласия, он пошел обратно, к крыльцу ветамбулатории. Но его остановил строгий окрик Швыркова:
— Эй ты, куда? Успеешь. Сначала дело!
— А я зачем? — спокойно ответил Хатанзеев. — Надо же и ее на совещание пригласить. Сам говорил, что о язве разговор будет…
Древняя кочевая дорога легла в тундре. Она идет из глубины Ямала до Обской губы, затем по берегу Большой Воды доходит до «столицы тундры» Салехарда. Никто из тех, кто едет в ямальские тундры, не минует этого древнего пути ненцев.
Ясной и теплой солнечной ночью на старой дороге встретились четыре нарты. Две тягловые нарты, мчавшиеся в тундру, были загружены медикаментами для борьбы с черной язвой. Управляли этими нартами Ядко Хатанзеев и Вера Вануйта. Две другие упряжки, шедшие навстречу, из тундры, не везли никакой клади. На них под конвоем милиционеров, связанные кожаными арканами-тынзеями, сидели «пастухи», подосланные князем Тайшиным в совхозные стада. «Пастухов» ожидали в следовательской комнате НКВД.
Пока Хатанзеев и милиционеры обменивались новостями и табаком, Вера с чувством опаляющей ненависти разглядывала арестованных. И вдруг вскинула руку с зажатым в ней хореем:
— Отец!
Один из арестованных быстро обернулся на неистовый крик Веры, вгляделся в ее лицо и втянул испуганно голову в плечи. А Хатанзеев бросился к Вануйта. Но Вера поглядела еще раз на перекошенное страхом лицо, так поглядела, словно хотела запомнить его на всю жизнь, на всю жизнь унести ненависть к нему, и опустила хорей на спины оленей.
Олени рванулись и понеслись. Хатанзеев на ходу ввалился в нарты.
Вера спешила. Тундра еще дышала зараженным воздухом. Еще опасны были и земля, и ягель, и вода в речушках.
Надо разослать пастухов на поиски новых, здоровых пастбищ. Надо мобилизовать всех комсомольцев и комсомолок тундры. Они день и ночь будут ходить по стадам и впрыскивать оленям под кожу прививочную сыворотку. Надо заболевших оленей отделить в особое карантинное стадо и лечить их сильными и сложными средствами.
Впереди много работы! Надо спешить. И Вера, погоняя оленей, смотрела нетерпеливо вперед, ни разу не оглянувшись на упряжку, увозившую на справедливый суд и на заслуженную расплату человека, которого она в последний раз назвала отцом…
1936 г.

Это случилось тогда, когда в степи еще белели не только черепа павших верблюдов, но и пробитые пулей черепа чубатых семиреченских казаков атамана Анненкова, и разрубленные красноармейским клинком черепа джигитов алаш-ордынских полков «зеленого знамени»; когда баи, удравшие в Синьцзян, еще присылали беднякам письма, в которых именем аллаха всеблагого и всемилостивого грозили содрать с них шкуру, если они не сохранят в целости байские стада и табуны.
Студент Алма-атинского пединститута Нуржан Байжанов поехал на летние каникулы в аул, к отцу. Целую зиму его учили многому-многому, ибо он готовился стать учителем одной из тех школ, что открывала Советская власть в степных аулах.
Вместе с Нуржаном поехала его жена Жаукен, студентка того же института и комсомолка. Сначала они долго ехали по железной дороге, а когда ночью высадились на глухом полустанке, когда поезд ушел, Жаукен стало не по себе. Вокруг лежала древняя страна, а в глубь ее вели лишь караванные дороги, старые, как мир, и, как старый мир, плохие.
Комсомольца Кагена, щеголявшего в засаленной морской тельняшке, непонятно как попавшей в безводные степи, и в розовых ситцевых шароварах, прежде называли бы караван-баши, но теперь его называли экспедитором сельпо. Того сельпо, которым заведовал отец студента, старый Байжанов. Каген подвел к полустанку трех верблюдов, украшенных осмолдуками — желтыми, фиолетовыми, зелеными и красными шерстяными плюмажами на головах. Когда Каген приводил своих верблюдов на полустанок за товарами для сельпо, осмолдуков на верблюдах, конечно, не было, но сегодня плюмажи развеваются в знак радости, ибо разве не великая радость для почтенного заведующего сельпо Мулдагалима Байжанова приезд в родной аул любимого сына, первенца и студента Нуржана! И, когда темно-дымчатые с черной гривой гиганты, глухо, утробно урча, встали покорно на колени, Жаукен, кутаясь зябко в длинный шелковый шарф, хотя было плюс двадцать в лунной тени, посмотрела жалобно туда, где завязла во тьме ночи красная точка хвостового фонаря поезда. Она была горожанка и верблюдов видела только на алма-атинских базарах.
Читать дальше
![Михаил Зуев-Ордынец Бунт на борту [Рассказы разных лет] обложка книги](/books/389798/mihail-zuev-cover.webp)


![Михаил Зуев-Ордынец - Желтый тайфун [Повесть и рассказы]](/books/28148/mihail-zuev-thumb.webp)