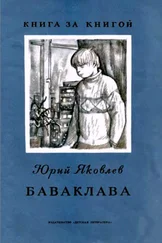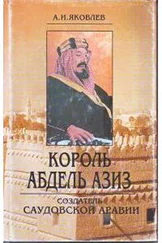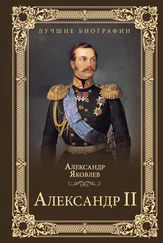Александр Яковлев
ЖГЕЛЬ
Рассказ
За болотами с синим маревом, за лесами за дремучими, в комарином царстве — Жгель.
Как морок она, эта Жгель, как пьяный аль похмельный сон. Идти к ней — дороги дальние да топкие; в лесах, что стоят стенами и справа и слева, вековечный мрак и седые мхи. Идет путник да ждет: сейчас в самой дреми будет избушка на курьих ножках, а там и баба-яга. Ан вот лес оборвался, стал стеной, уперся, точно идти дальше не хочет — боится. А прямо перед ним, на неохватной поляне толпой толпятся черные и красные трубы, и густой дым из них валит прямо в небо, и чадно коптит копотью лицо небесное.
Над иными трубами пламя вздымается — так вот богатырской свечей сажени в полторы и стоит, полыхает. Красные кирпичные здания покоями да глаголями протянулись по обезображенным закоптелым полям, вздымаются двумя, а иной раз тремя ярусами. Рядом вот с ними, саженях в ста каких, гляди — расселся широко черный сарай, из крыши дым валит — прямо из щелей. Это горнò.
А деревушки там и здесь жалкие, подслеповатые, тоже будто закопченные. Глянуть издали, — батюшки, ведь ад! Похоже: и пламень, и дым, и копоть, и шум, и гудок басовитый гудит на каркуновском заводе.
И люди здесь подстать этим сумрачным лесам, этому пламени, дыму и копоти. Такие же сумрачные. Идет иной по дороге — закопченный, волосами зарос по самые глаза, полушубок и шапка рваные, — вот брось на дорогу, никто не возьмет, разве ногой брезгливо пошевелит:
— A-а, жгеляне бросили. Мастеровщина голопузая.
И обругается.
А жгеляне гордятся:
— Наша Жгель всем нос утрет. Мы кто? Мужики? Ни в каком разе. Мы спокон веков мастера. Кто муравлену посуду царю Алексею Михалычу поставлял? Мы. Чьей посудой держатся трактиры в Москве? Нашей. Теперь и сочти, сколь мы сила в своем деле. Ты не гляди, что у меня полушубок в дырах. Мы, жгеляне, — проломны головы. Нам новое не к лицу: пропьем в первом кабаке.
Ну, само собой, не все пьяницы да голяки — и степенного народу, гляди, тоже хватит. Купцов-тысячников и то дюжиной считай: Фомины, Еремины, Гладилины, Сахаровы, Ревуновы… Жгель — вроде дно золотое, потому что жгельская глина славна исстари, умей только руку протянуть — и бери богатство полными горстями. И берут, и богатеют. Жгельские купцы не только в округе — в Москве гремят. Али вы не слыхали про жгельских купцов?
И первый-то между ними — Мирон Евстигнеич Каркунов.
Вот гляди от дороги вправо — длинные двухъярусные постройки из красного кирпича глаголем протянулись, это — каркуновская фарфоровая фабрика… Эге-ге-ге! Как не быть первым человеком, ежели вот они какие корпуса-то! У иного купца жгельского и фабрика есть, да что в ней толку, ежели на всей фабрике рабочих с сотню не наберется? А у Каркунова на фабрике рабочих до тысячи человек работает, правда, больше бабы, а все-таки тысяча — цифра немалая.
За фабрикой на пригорке, мимо которого прохлыстнулась дорога, кичливо стоит просторный белый каменный дом, с террасой стеклянной, — здесь сам Мирон Евстигнеич живет. Фабрика перед домом внизу, вся, как на ладони. Знают рабочие: подойдет хозяин к окну — ему сразу видать, что делается на фабричном дворе, как горны горят, а глянет он из своего окна в одно фабричное окно, в другое — уже знает, как дела во всей фабрике двигаются. Орлом налетит, ежели неуправка какая, — у него не зазеваешься. Накричит, и всегда: раз! раз! затрещину и мастеру, и рабочему, и бабе, и мальчонке, — он не поглядит, в каких ты чинах ходишь: проштрафился — получай по заслугам. Чем дело держится? Хозяйским глазом да хозяйской строгостью. Они — главнее всего. Не досмотришь — все может прахом пойти.
Мирон Евстигнеич маху не даст, у него прахом дело не пойдет… Ого-го-го! Не таков Каркунов, чтоб свое упустить.
От Сергеева дня до Покрова во всей Жгели переломная неделя: от лета к зиме — смена работ и рабочих, расчеты за старое и новые наймы и сделки.
Еще черти на кулачки не дрались, так темно, а на дворе каркуновской фабрики толпа гудит. Крикливыми галками кричат бабы и девки. Они густо обсели крыльцо конторы, пронзительно ругаются. Их много: точильщицы, уборщицы, мяльщицы — и кто-то из них ужо пойдет с угрюмым лицом отсюда, ненанятая, это все знают, — и каждая теперь думает: не я ли? И уже заранее ненавидит своих счастливых соперниц и заранее готова сбить цену… Только степенные, франтоватые писарихи держатся спокойно и в стороне, — эти знают себе цену.
Читать дальше
![Александр Яковлев Жгель [Рассказ] обложка книги](/books/387869/aleksandr-yakovlev-zhgel-rasskaz-cover.webp)


![Александр Яковлев - Осенняя женщина [Авторский сборник]](/books/28535/aleksandr-yakovlev-osennyaya-zhenchina-avtorskij-sborn-thumb.webp)