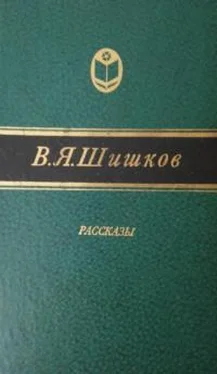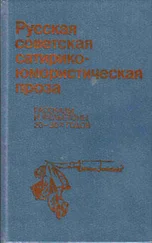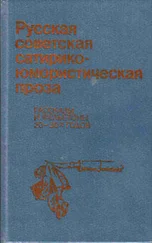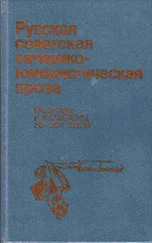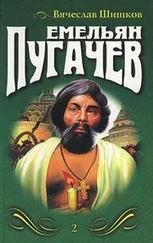— Иди-ка в чум, отгони собаку, — сказала она каким-то особым голосом, ласково так сказала, нараспев.
— Геть! — войдя в чум, крикнул Василий. — Геть! — собака стоит над разостланной у костра шкурой и, крутя хвостом, что-то обнюхивает. Присмотрелся Василий, языком прищелкнул и пал на колени перед маленьким своим сыном.
— Анна! Анна! — закричал он. — Гляди! Сын родился.
Когда вошла Анна и улыбнулась, в чуме сразу светлей сделалось.
И стал Василий отцом. Теперь ему никого не надо, кроме Анны и маленького Ниру. Забыл Василий про Чоччу, совсем забыл.
А Чоччу в тот самый день, когда откочевал сюда Василий, пришла налегке к опустевшему стойбищу.
— Нету… — сказала Чоччу и, вернувшись домой, три дня не ела, не пила.
Месяц дожидалась, вот придет, — другой дожидалась, да еще, да еще.
— Бросил, — сказала Чоччу.
И как сказала себе это слово, будто бы легче сделалось, а потом опять… Такая тоска… эх, лучше в землю…
Каждый вечер подходила она к высокому шесту с жертвенной кожей наверху, подшибалась ладонью и долго щупала осиротевшими глазами таежную тропу. Смотрит и поет, и причитает, а слезы сами собой текут, и дрожит сердце.
«Та сторона далекая… Там Василий… Вот щеки мои завяли, вот губы высохли… А Василья нет. Я вскочу на самого быстрого оленя, скажу ему: ищи, олень, милого… Олень, олень! Взвейся над тайгой, отыщи моего милого… Нет! Стой, олень, стой смирно!.. Забыл, пусть забыл… Я буду одна… Пусть тайга кругом гудит, пусть медведь бродит… Я буду одна…»
Чоччу утирает слезы, гонит прочь подвывающую ей собаку и вновь жалобно:
«Ой, ветер, не шуми хвоей!.. Скажи, ветер, сердцу — может, послушает — пусть молчит: одной лучше… Я одна, совсем одна… счастливая! Разве ты не знаешь, ветер, какая я счастливая…»
IV
Лето прокатилось, осень на исходе. Василий все еще на севере. Первый снег на хребты, на полянки пал, болота подстыли, мерзлая трава под ногой хруст дает.
— Ну, как — ничего? — спросила однажды Анна и, оторвав от груди черноглазого Ниру, долго целовала его в крохотный влажный рот.
Василий не понял, о чем спросила Анна, и, растерянно улыбаясь, ответил:
— Ничего.
— Ничего? Забыл?
— За-а-был… — махнул рукой Василий и пощекотал травинкой в носу Ниру. Тот скосил глаза на травинку, чихнул и заегозил кулачками возле носа, пуская пузыри. Анна и Василий громко засмеялись, а Ниру забрал в рот свою ногу, стал ее сосать и радостно гулькать.
Утром Анна переспросила:
— Забыл? Верно? — и долго, пристально глядела на Василия. — Лови оленей, вьючь. Нюльгирить будем.
— Куда? — как и в тот раз, удивленно спросил Василий.
— Ербогоч-ду… в Ербогоч, на ярмарку. Ничего у нас нет, все кончилось, надо к купцу идти, надо пушнину торговому тащить.
Дорогой их захватила стужа. Василий, как всегда, шел впереди, прочищал тропу, за ним верхом Анна, за ней на отдельном олене, болтаясь справа у седла, — Ниру. Его положили лубочный коробок, на дно постлали коричневой трухи от сгнившей древесины, чтоб было мягко. Он кое-как прикрыт оленьей шкурой, но его грудь голая.
Он почти всю дорогу спит, а то вдруг зальется звонким плачем.
— Не слышишь? — кричит Василий Анне.
Та ударяет пятками по шее оленя: «Ко! Ко!»
— Не слышишь? Ревет…
— Пускай греется, — равнодушно отвечает мать, а Ниру, наплакавшись вволю, замолкает.
Анна тогда соскакивает, привязывает к дереву оленя и вытаскивает полуголого Ниру из зыбки. Тот весь дрожит, но, почуяв грудь матери, с урчаньем и хрипом, как голодный волчонок, жадно нащупывает сосок и начинает, захлебываясь и сладко жмурясь, глотать теплое молоко.
Вьюга крутит и воет. Снег белой тучей носится по поляне. По сторонам гудит и гнется тайга. Огромные, оторванные ветром сучья, распластав хвою, проносятся над остановившимися тунгусами. Олени сгрудились и, подставив ветру зад, роют копытами сугробы.
Василий стоит возле Анны, прищелкивает языком и сглатывает, наблюдая, как сосет Ниру.
— Замерз? — спрашивает любовно Анна, ежась от холода.
— Борони бог! Жарко… — от Василия идет пар. Он устал, шагая по сугробам, его голова, повязанная красным платком, вспотела.
Шли долго. Вставали до солнца, оленей собирали и приготовляли в путь к полудню, а шли весь день дотемна. Но проходили верст пятнадцать — двадцать.
Облюбуют где-нибудь место, — сумерки, солнце давно село, — остановятся на ночлег. Снег выше колен — расчистят, поставят чум, набросают внутрь мелких хвойных веток и запалят костер. Тепло тогда в чуме. И если поддерживать огонь, тепло будет всю ночь. Но ночь для сна — в чуме к утру холод, как в тайге.
Читать дальше