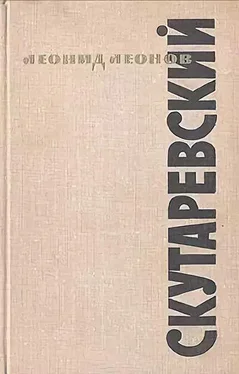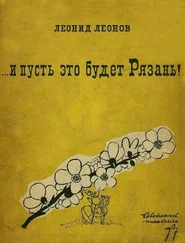Американец помолчал, губы его стали жестки.
— Словом, я не советую брать эту нарядную ошибку за стандарт. Конечно, это ошибка юности, за нее все мы дорого платим. Мне пятьдесят, пылкая юность моя, пожалуй, кончилась, а я только теперь начинаю умнеть. Юность всегда расточительна, но и при этом условии вы идете гигантскими шагами. Пока у вас только Кентукки, но лет через пятьдесят у вас будет уже свой Бостон… Что вы хотели сказать?
— Да, — в бешенстве откликнулся Скутаревский; в конце концов, речь шла о его цеховом инженерском достоинстве. — Насколько я понял, вы были инженером?
— О, и я любил это дело… но, под давлением некоторых обстоятельств, был вынужден изменить свою профессию.
— Можно уточнить, за что вас удалили из любимого дела? Вы были плохим инженером… или… что-нибудь посложнее?
— Это безработица, мистер Скутаревский.
— Это и вынудило вас заняться журналистикой?
Тот сделал вид, что не расслышал вопроса.
— И все-таки Россия сейчас самая любопытная часть вселенной. — Он вежливо протянул своему спутнику мятую пачку сигарет: — Курите!.. Кстати, почему у вас так много говорят по любому поводу?
Скутаревский дрожащими пальцами перематывал рулоны самопишущих приборов, которые подоспевший техник сунул ему в руки. Они волочились по полу, ленты ябедной, разграфленной бумаги, а он не видел ничего, кроме нечеткой, волнистой линии, фосфоресцирующей на темноте. Гость выдул часы и вдруг заторопился; он снисходительно объяснил, что имеет только полгода на беглый осмотр всех чудес этой неслыханной страны. Черимов вовремя отошел в сторону. Кунаев сказал гуд-бай, все, что он знал по-английски, неуклюже, зато от души. Скутаревский молча поклонился гостю и повернулся спиной. Вещество его чадило и клокотало; ему было стыдно за сына, и сжимались кулаки на Петрыгина, через которого проходил проект и которого уже давно он разглядывал с враждебным вниманьем. Он испытывал жажду, зуд в руках, потребность в ругани и стал спускаться вниз.
— Ну, что он сказал? — догнал его Кунаев.
— Он не сказал ничего. Он из тех, которые терпят нас, пока мы самые западные из азиатов, и возмущаются, когда мы заявляем себя самыми восточными из европейцев… — ответил Скутаревский, не понимая, ради чего он лгал сейчас этому горячему, непоседливому человеку.
В суматохе Кунаев так и не уразумел ничего. Да тут еще в окно со двора, заваленного щебнем, стружкой и разбитой цементной тарой, ворвалось медное, воинственное воркотанье оркестра. Торжество еще продолжалось, когда распространился слух, что суждения экспертизы крайне благоприятны. Тем более угрюмое молчание Скутаревского и поспешный отъезд американца селили смущенье в неискушенных участниках торжества. Им хотелось, чтобы вместе с ними радовались все — и этот любознательный гость, если только доступно ему при его европейски здравом смысле бескорыстное ликование молодости, и этот генштабист индустриализации, как обозвал Скутаревского впопыхах энтузиастический председатель исполкома; вечером к тому же замышлялась дружеская вечеринка с пельменями и приезжими знаменитостями. И вот тут-то, при осмотре котлов, шести стирлингов по семьсот двадцать метров нагрева, Скутаревский и спросил у Кунаева во утоление какой-то непостижимой потребности: «…вы радуетесь обилию воды или количеству котлов, товарищ?» И сразу это мимолетное словесное облачко раздулось в целую тучу курчавой черимовской головой. Просматривая графики котлов, шурша синеватой калькой чертежей, которые захватил в дорогу, все доискивался он правды, о которой не смел догадываться, и, кажется, впервые клял свою дерзкую, безопытную молодость; пожалуй, стоило бросить академическую работу, чтоб только разгадать этот чертов ребус. Графики отличались отменным благополучием, и даже содержание CO 2было точно такое, какое предписывалось в учебниках. В чертежах также все обстояло исправно, каждой гайке, каждому метру провода имелось свое точное занумерованное место; притом тщательность исполнения была такова, что, в глазах Черимова, никакой картине не сравняться было с ними по красоте. Минутами, теряя надежду на собственную прозорливость, он уже протягивал руку разбудить учителя и, жертвуя всем, спросить в упор о значении обмолвки, и всякий раз не решался.
Тот спал на той сокровенной глубине, куда лишь длинными, кружными путями просачивается биенье действительности. Все теперь стало ему ненужным — ни мир, ни плоско нарисованные на нем понятья, ни мненье людское, ни честь его инженерской корпорации.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу