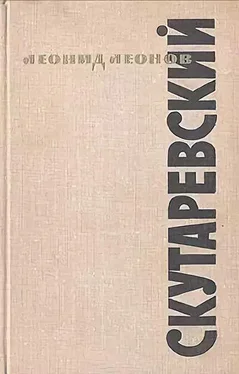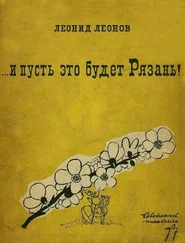— Интересно… птичка… я не знал, — вдумчиво твердил тот и некоторое время нес птицу на ладони, то распяливая, то снова складывая мертвое ее крыло.
Потом они сидели на ветхом каменном диванчике, и, хотя все благоприятствовало тому, уже не возвращалась к Джелладалееву весенняя его лирика. Он держался любезно и замкнуто; прежняя военная выправка появилась в его плечах. Может быть, и умнее было молчать в это время, в этом месте, поскольку тишина включает в себя все, что можно произнести в ней. Из нагретого камня скамьи приятное тепло сочилось в ноги; она была широка, и ленивый зеленый бархаток мха расползался по ее щербатым боковинам. Мутная, верткая вода подступала к самым ступеням, и такое же возникало влечение ступить на нее, как смотреть в большой, спокойный огонь, или прыгнуть с обрыва, за которым голубые луга и цветы, или, как вчера, коснуться смертельной клеммы, где невидимо струится энергия.
— Значит, принцип все-таки не скомпрометирован? — молвил наконец Джелладалеев.
Вопрос был из тех, которые еще не раз должны были ему поставить в будущем. Скутаревский собрался отвечать долго и сердито — о причинах первой неудачи, о негодности ионизаторов, достаточных лишь в пределах лабораторного опыта, о том, что, может быть, потребуется порвать крепкие сцепляющие резинки в атоме, взорвать, наконец, целый тоннель воздуха и в нем пропихнуть бесшумный электрический поток. Он не успел произнести и трети: по аллее, прыгая со снежного островка на островок, приближалась Женя. И по тому, как Скутаревский сжался и растерянными глазами, уже не скрываясь перед чужим, глядел туда, Джелладалеев понял, что напоследок судьба дает ему наблюдать старость великого человека, — именно таким, несмотря на все, умещался Скутаревский в его воображенье. Он ошибался: просто сказывалась у Сергея Андреича нервная перегрузка последних дней.
Чем ближе подходил он к ней, тем тяжелей становилась его походка. От Джелладалеева отошел юноша, а к девушке подошел старик, величественный и хмурый.
Приезд Жени заставал его врасплох; попросту он не знал, что с нею делать. После неудачи, которая в глазах широкой обывательской массы ставила под сомнение весь его научный путь, он готов был анализировать то, что уже неподвластно было грубому механическому расчленению. И хотя он жал ей руки, пытаясь согреть красные, иззябшие на ветру пальцы, сам он терялся от мысли — зачем ему еще этим лишним персонажем засорять свой трагический и без того тесный балаган.
— Вы… как?
— Приехала вот.
— Что случилось?
— Просто так, к вам! — И по глазам видно было, что ждала начальственной, но не очень грозной воркотни.
Он захватил губами ус и жевал его, глядя в сторону.
— Ну, как там? — Конечно, в институте уже могли прослышать о его поражении: Джелладалеев ежедневно отправлял куда-то письма, а родных у него не было в мире. — Что там нового?
— Все в порядке. Николай рассчитал Касимова за пьянство. Потом его вызвали по делу Петрыгина. Пристройка…
— …он взят? — жестко перебил Скутаревский.
— Да. У него нашли валюту в полом валу музыкального ящика. Пристройка третьего дня закончилась. Ханшин, возможно, получит премию.
— Да, я читал.
Ясно, она ничего не знала пока о происшедшем, но, значит, и у нее таилась какая-то догадка, если не решалась в упор спросить о самом главном. Они молча пошли к дому; говорить сразу стало не о чем. Вдруг Скутаревский услышал, как в стоптанных калошах Жени всхлипывает вода.
— Я промокла, — улыбнулась она на его вопросительный жест и невесело покачала головой: — Даже чулки мокрые…
— Вы от станции?..
— Да, шла пешком. Я без вещей. Колхозник запросил сто рублей, он ехал порожняком…
— Сколько вы шли?
— Три часа.
Он замахал руками, зашумел, не давая произнести и слова:
— Тогда марш домой. Надо растереть, да. Черт, такая пора… эти, как их?.. коклюши ходят. — И свирепо тащил за рукав.
Всякое сопротивление взбесило бы его; в эту минуту было в нем что-то от старой, задушевной няньки с бородавкой на щеке. Невольно в голову ей пришло сравненье: тогда, после вернисажа, она также промокла, и весь вечер — долгий вечер ребячливых и преступных, так ей мнилось, утех — она высидела с ощущением ноющего холодка в коленях. И за весь вечер Черимов, который сам был в прочных, битюговой кожи, сапогах, даже не поинтересовался, почему она жмется к нетопленной печке и дрожит. Объяснение давалось просто: молодость не боится; и, странно, именно небрежением этим был ей Черимов в особенности близок тогда.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу