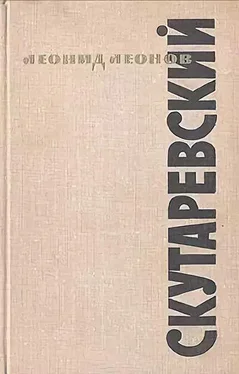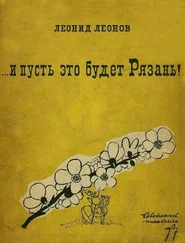— Куды мне, я банщик. Барабаны, что ли, таскать! — И отвернулся, покраснев.
До того случая был он этакая бородатая амеба, дикарь; из деревни выписали его мальчишкой; не видя ничего, кроме голых спин, он и сам с течением времени становился банным инвентарем. Если банька пустовала, он сидя спал, и кошмарные сны сказочного Анепсия-царя были детскими выдумками в сравнении с его видениями. Даже в молодости снились ему не бабы, не сражения, не обновы, а нечто лукавое и множественное: например, рыбы в пиджаках, либо сто тысяч архиереев единовременно, либо поле; а по нему ползают рогатые улитки, либо просто щека, но громадная и выбритая до такого лютого непотребства, что Матвейка отражался в ней весь, в натуральную величину. Тяжелей свинца была его подушка от застрявших в ней несуразиц… да и мало ли какие чудища бродят в дремучих лесах сновидений! С возрастом стали ему сниться бороды всевозможных покроев, как в парикмахерской, на парижском листе, различных мастей и вывертов, орда, целое нашествие бород, этакое шерстистое ликование. Тут он и сам от безделья стал отращивать себе бороду, и довольно успешно, и некому его было остановить.
Родни у него не было, брат умер еще до возникновения этой шалой прихоти, а племянник, прожив у дяди полгода, сбежал на тот же самый крошечный стеклянный заводишко, где работал и его отец; не терпел племянник ремесла, к которому начал приспосабливать его дядька. Матвей тогда не огорчился: «Молодели не жалей; щипаная-то, она кустистей растет!» Позже, еще совсем малолеток, племянник дрался на фронте, после чего неимоверными усилиями выбирался вверх по ступеням науки, а дядька все спал, выжидая своего часа. И поистине, нужно было выстрелить в него из мортиры, чтоб пробудить. Изредка, заезжая в столицу, Колька Черимов забегал навестить дядьку на его дырявом чердаке. Он присаживался на узкой койке и долго, пристально, прищуриваясь сквозь кулак, разглядывал своего несговорчивого родича. Тот сидел перед ним, большеротый, с огромными ноздрями, к людям прохладный, насмешливый, наблюдатель жизни, кошель неистребимой звериной силы.
— Никак, бороду мою смотришь? — выговаривал он наконец.
— Хороша, ты из ней ровно из багетовой рамы выглядываешь!
— Полезная вещь, — с тем же ядком соглашался дядя и поглаживал ее бережно. — Надысь в кино звали сыматься. Трешницу давали и пищу.
— Просто шелк… — все покачивался, стиснув зубы, племянник. — С такою и горла не простудишь: ровно в валенке. Не кури только, а то спалишь ненароком!
— Ничего, я ее храню.
В сущности, он нарочно рядился перед племянником в дикарскую свою наготу. Уже с год он обучился грамоте, и хоть с опозданием, но узнал, за что — не умерщвленный во многих знаменитых кампаниях — погиб безвинный полковник. Нарочно, чтоб пуще раззудить Кольку, он рассказывал в подробностях, как в свободные дни играет на дворе с ребятами в орлянку стертыми николаевскими пятаками; тот дрожащей рукой поглаживал растерзанный краешек одеяла, на котором сидел. Порою хотелось ему тряхнуть дядьку за плечи и кричать, кричать ему в ухо, как на митинге, — о, какою, дескать, лопатою мешать ленивые твои мозги! Но чердак был гулок и просторен, крик человека терялся тут, под глухою тесовою обшивкой. Тогда он молча снимал со стены и, в который раз, принимался разглядывать выцветшую от времени фотокарточку, где изображен был какой-то военный в полной форме и при усах. И еще там висело — но не девушка в венчике, не ангелок с пасхальным яйцом, а сам писатель Короленко, которого полюбил Матвей Никеич из-за его чудо-бороды.
— Выпиваешь? — улыбался Черимов и кивал на полку, где, подобно матери с младенцем, стояли винная бутыль и крохотный стакашек.
— На ночь растираюсь. От воды хрящики мои ноют:
— Это оттого, что спины чужие трешь, нагибаешься.
— Ты не кричи, а то прачкину девочку разбудишь. Тут у нас за перегородкой прачка живет.
— Почем берешь со спины? — вдумчиво осведомлялся племянник.
— Рупь. Приходи, с тебя половину по родству… — И вот грозился разбухлым пальцем: — Чего, чего мурчишь? Я дурю, да вон башка-то как смоль. А ты и учен, а эвон вкруг ушей-то ровно паутинкой оплело. — Так пренебрежительным спокойствием мстил он этому мальчишке за попытки сманить его на фабричку, откуда самого его уже увела судьба. — Ну, ты посиди тут, я тебя не гоню… — И начинал при госте шумно укладываться на ночь, а однажды, к пущей его досаде, даже и молитовку вслух почитал.
— Все озорничаешь, все путляешь… ось, гадюка! — оборонялся племянник, нехотя берясь за шапку. — Погоди, дохлестнет и до тебя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу