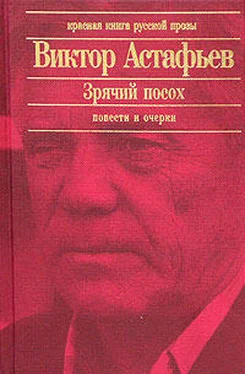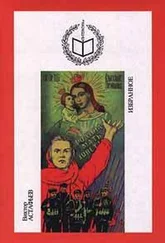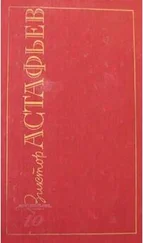За речкой Быковкой в пошатнувшейся загороди, состоящей частью из выветренных до белизны осиновых жердей, частью из ломаного частокола, женщина копает землю. Движения ее неторопливы, как бы раздумчивы, одежда на ней того же цвета, что и земля, — серовато-черная, с разводами выступившей на спине соли. Нехитрое дело — копать землю: подошвой на отгиб лопаты, острие или, по-солдатски, штык в землю, поворот лопаты, заученный удар по вывернутому изнанкой кому, и снова наклон — подъем, наклон — подъем. Сколько это там «мальчики играют в тихой мгле — десять тысяч лет уже играют…»?
А сколько же эта женщина копает землю? Весь свой век. Нет, все века земного человеческого существования — сначала камешком, потом обожженным сучком, потом железкой, не сразу и не вдруг сделавшейся лопатою. Удивительная судьба этого вроде бы примитивного инструмента, из тьмы безграмотных веков дошедшего до наших времен и не сдающего своих позиций. Я уверен, и в Байконуре, и в Звездном городке, где люди живут вроде бы в запредельном, космическом времени и масштабе, не могут обойтись без нее, без старушки лопаты. Более того, все с нее и началось. Ведь прежде чем что-либо построить, вырастить, добыть, надо копать землю — мы дети земли, мы живем ею и на ней, оттого и зовем ее матерью. Слово это люди не устают повторять, и никогда оно не надоест: мать и хлеб — слова всевечны.
Женщина копает землю, не себе копает, а немощной бабушке Даше — так уж заведено, так уж пошло издавна в этой деревушке: прежде чем сделать что-либо себе, подсобляют другим.
…Деревня Быковка стоит на берегу уральской речки Быковки, журчаливой, студеноводной, веснами облитой цветами черемухи. Глянешь с утора, и кажется, что бушевавшая всю весну речка взбила по всем своим загогулинам и водоплескам белую пену. В пене омытые, задохнувшиеся вешним дурманом, дни и ночи трещат соловьи, уркают голуби-вяхири, по травянистым косогорам верещит, свистит и заливается всякая иная пернатая мелочь, которой и всегда тут было много, а за последние годы сделалось гуще, — видно, в середине России и в теплых краях до того доопрыскивали поля и леса, до того их доопыляли, что всех козявок, блошек, мошек и муравьишек там уморили, нечего стало есть птичкам и жить страшно сделалось, вот они и ищут кормные места и тихие уголки на земле.
Широко разлившаяся от подпора Камской гидростанции река Чусовая и Сылва, соединившись вместе, образуют малонаселенный угол. Подумать только: сорок минут на электричке за плотину от огромного индустриального центра — Перми, в которой толчея, дышать от копоти и газа нечем, двадцать минут на «Ракете» от пристани Левшино — и вот она, первозданная тишина и вселенское успокоение.
Породнился я с деревушкой Быковкой и ее обитателями, и, находясь вдали от Урала, нет-нет да и получим мы с женой весточку оттуда: живем помаленьку, тот-то помер, тот-то уехал или собирается уезжать…
Когда-то вызвал я неудовольствие одного пермского деятеля тем, что поселился в этакой глухомани. Не понимая такого моего шага, деятель полемизировал со мною по этому поводу, полемику же он понимал как футбольную игру в одни ворота, чтоб он «бил», а все остальные «ловили», — и, получив непривычный отпор, воспламенился, орал, есть, дескать, в Пермской области колхоз-миллионер, там бы избу мне дали бесплатно, мешки с продуктами не надо на себе таскать, там и магазин, там и Дворец культуры, в лесах клещей нет и никакой другой заразы — живи в свое удовольствие, отражай все новое, передовое. Так нет ведь, забрался писака в энцефалитную деревушку, чуть жену не погубил, пишет про бабушку с дедушкой да про Сибирь, а картошку уральскую ест!..
Я знаю еще по работе в газете, когда начальник просит или требуют «отражать достижения», то он ясно подразумевает, что в этих «достижениях» уж непременно отразится сам, и сказал, что выбираю все в жизни согласно своей душе: жену, работу, жилье, мысли, даже еду, если капиталы позволяют.
Важный деятель сей же момент обвинил меня в «искривлении души», в ущербности видения действительности. Может быть, может быть, ибо еще в войну я уяснил: слова песни «Мы будем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда» есть все-таки слова, и не больше, к тому же написанные на «русского языка». Пермский же начальник, и кабы только он, считает пение и смех «среди упорной борьбы и труда» нормальным состоянием нашего общества. Разница еще и в том, что гораздо больше я видел слез после войны, чем слышал песен, и нет тут моей вины, а есть наша общая беда и боль, которую самой природой и мучительной профессией назначено мне постоянно чувствовать и переживать во сто крат больнее других людей, иначе и за перо не стоило браться.
Читать дальше