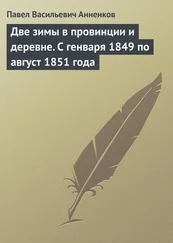Михаил побежал к Лобановым, в самый верхний конец деревни. Там ему сказали, что Тимофей еще вечор ушел к сестре Александре. У Александры в воротах приставка — сама, наверно, еще на скотном, а ребята в школе.
Михаил, запаренный, как лошадь, порысил в правление — медлить дальше со сводкой нельзя. Райком, наверно, и так все провода оборвал.
Топая, бешено стуча сапогами, чтобы стряхнуть с них мокрый снег, он вбежал в контору — и у него белые пятна пошли по лицу: Тимофей был тут, в конторе.
— Не уехал?
— Нет. В район, в больницу, думаю.
— А ты с кем это надумал? Направление есть?
Тимофей — нечего сказать — провел рукой по лбу.
— Так вот, — отчеканил Михаил, — не захотел ехать на лошади — топай на своих.
— Потопал бы, да толку от меня там мало.
— Ничего! Будет толк. У нас по-всякому лечат. Кого медициной, а кого и законом о трудповинности. Помогает.
Тимофей стал подниматься. Расчет на психику: нижнюю губу в зубы, одна рука к животу, другая вместо подпоры. И конечно, как всегда бывает в таких случаях, осуждающее покачивание головой и слова, которыми хотят направить тебя на путь истинный.
— Круто берешь, парень, — сказал Тимофей. — Смотри — не споткнись.
— Ничего, — сказал Михаил. — Я с сорок второго круто беру. — Помолчал и врезал для полной ясности, глядя Тимофею прямо в глаза: — Когда на отца похоронную принесли.
А какого дьявола с ним миндальничать? Почему для всех существует закон о трудповинности, а для него нет?
Хлопнула дверь в коридоре. Тяжело заохала, застонала старая лестница.
Михаил постоял, прислушиваясь, отер с лица пот рукавом ватника, достал сводку из кармана с груди и стал звонить в райком.
4
— Опять я к тебе, сестра.
— Вот и ладно, вот и хорошо, Тимофей Трофимович, — с радостью сказала Александра и забегала по избе.
Домашнее утро у нее, как у доярки, начиналось поздно, а сегодня по случаю отела Мальвы она пришла со скотного двора еще позже.
Она быстро навела порядок в избе: постель ребячью, не прибранную еще с ночи, вон, в сени, корыто со стиркой туда же, потом достала из сундука чистую скатерку, накрыла стол.
— Нет-нет, — говорила она, — я сама за стол не сяду, пока в избе осенняя распута. А мы чай сейчас пить будем. Те ведь, наверно, охламоны, — она имела в виду своих детей, — и чаем дядю не напоили. Проходи, проходи, Тимофей Трофимович, да ножки-то давай разуем. У меня тепло в избе.
— Нет, разуваться не стану. В район, в больницу попадать надо.
— В район? — удивилась Александра. — Ну ладно, ладно. Тамошние врачи понимают, а наша Тося только орать и может. У ней первое лекарство — горло. Ведьма, а не фершалица.
Тимофей все же сестру уважил — шинель снял, и Александра, собирая на стол, украдкой присматривалась к нему, так как ночью при свете тускленькой керосинки она вообще не могла разглядеть его, а утром убежала на скотный двор затемно, когда он еще спал.
По сравнению с прошлым разом брат ей показался еще хуже: ноги в валенках-ступах — кто только и наградил его такими, — как у старого коняги, крючьями, врозь, на щеках ямы — колоб можно положить, и, как ни крепилась она, — выдали глаза. И Тимофей заметил это.
— Что, сестра, — спросил он глухо, — неважны мои дела?
— Нет-нет, — живо возразила Александра, — я ведь это так, от радости… Такой гость у меня… — И улыбнулась сквозь слезы, закивала быстро головой. Нет-нет, ничего еще. Ты ведь в материн род, не в отцов. Это мы у Трохи все земляные, с осадом, а ты в молодости бегал — земли не задевал.
— Не успокаивай, сестра.
— Правда, правда, Тимоша. У нас природность такая. Смотри-ко, я телушка какая. Ни война не уездила, ни нужда не съела — людей стыдно. И муж, бывало, покойничек, руки без работы не держал — все нипочем. Я и теперь еще песни пою. Всякие — и старинные и новые.
— Это хорошо, — сказал Тимофей.
— А уж не знаю, хорошо ли, плохо — такая есть. На скотном дворе заголошу всех с ума сведу. И баб, и коров.
Тимофей к картошке горячей не притронулся, на сыроеги соленые только взглянул, а молока, которое она тайком (своей коровы у нее не было) принесла со скотного двора во фляжке (удобная посудина, не выпирает из-за пазухи — все скотницы обзавелись такими), выпил. Потом погрелся чаем, и глаза у него вроде оттаяли — повеселее стал взгляд.
Александра, улыбаясь, сказала:
— А ты голову-то, Тимоша, как смолоду держишь. Набок. Это от гармони у тебя, наверно?
— А ты и гармонь помнишь?
— Помню. Что ты! Ведь я гордилась тобой! Тятя когда ты в коммуну ушел, места себе не может прибрать. «Разорил, разорил, сукин сын!» Помнишь, поле у нас отрезали у реки? Хорошая, жирная земля была — всё рожь сеяли.
Читать дальше