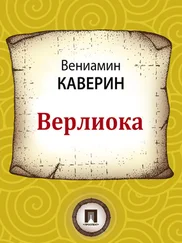Какой-то комиссионер с огромными черными усами, в фуражке, на околыше которой было написано «Гостиница Франция», надвинулся на него и оглушительно крикнул в самое ухо: «Комфорт только у нас!» Но сразу же настала тишина, потому что он был теперь в кипарисовой роще, высоко над морем. Одинокая беломраморная колонна стояла над чьей-то могилой; он вспомнил, что это была могила писателя Найденова и что он списал для Лизы его высеченные на мраморе стихи.
И тишина была глубокая, легкая, полуденная. Он прислушивался к ней, лежа на постели, с закинутыми под голову руками. Он ждал ее, потому что вместе с этой тишиной к нему должна была прийти Лиза. Пожалуй, это была несбыточная надежда, и он удивился и обрадовался, когда до него все-таки донесся стук ее каблуков по асфальту. Он вообразил этот стук, а может быть, и не вообразил, потому что его нельзя было перепутать с другим, учащавшимся и вдруг переходящим в гулкое медленное биение. То был совсем другой стук — может быть, сердца? Да, он слышал ее шаги, и это был не приступ, потому что он не чувствовал озноба, голова была свежа и даже, может быть, слишком свежа. Лиза шла к нему через Монмартр, мимо кабаков с русскими названиями, которые она расписала, мимо Блошиного рынка, на котором можно купить окурок сигары, мимо «Ротонды», где они могли провести за столиком лишь полчаса, потому что это не Казань, а Париж.
Иногда автобусы, проносившиеся вдоль бульвара Сен-Мишель, заглушали ее шаги, но потом он научился и в этом железном грохоте различать шаги ее длинных, крепких, загорелых ног.
Скоро она придет к нему, и они будут одни, здесь, в антресолях, совсем одни, потому что в бисерном зеркальце с трещиной, которое она ему подарила, угол падения не равен, не может быть равен углу отражения.
Пот заливал глаза, и должно быть, надо было все-таки померить температуру. Но градусник лежал где-то очень далеко, на столе, за километр, и сам стол то отодвигался, то приближался.
Лиза вошла осторожно, быстро, он попробовал встать и улыбнулся, когда выражение ужаса мгновенно изменило ее лицо, любимое, сияющее, взволнованное предчувствием встречи.
— Родная моя, нам не повезло, — сказал он с нежностью. — Ты дала мужу слово, что мы не встретимся, да? Ты торопишься и убежишь через десять минут? Я тебя люблю. Понимаешь, третьего дня у меня был приступ малярии, и я надеялся, что он не повторится, потому что она у меня трехдневная, и если не повторится на следующий день... Но вот повторилась.
Особенность этого многолетнего разговора, продолжавшегося почти четверть века, заключается в том, что по времени он как бы замирал, останавливался. Необходимость переписки, естественно, отпадала, когда Лиза встречалась с Карновским, — так случилось и летом 1928 года. Но сохранилось несколько писем, по которым видно, что с той поры началась другая полоса неисчерпаемости их отношений.
«Я горько плакал, читая листки из твоего блокнота, написанные, по-видимому, наспех, где-нибудь на пристани или на вокзале, и думая о том, что нехотя стал причиной новых потрясений в твоей и без того тяжкой судьбе, — писал Константин Павлович. — Никогда не забуду я великой — не боюсь этого слова — простоты, с которой ты в этот день осталась со мной. Никто не знает о нашей любви. Когда Коля Лавров, перенеся сыпной тиф и воспаление легких, лежал у меня в Казани, я читал ему твои письма. Тебя я считал погибшей, а его — вернувшимся с того света. Может быть, мне казалось, что жар и чистота твоей любви помогут его выздоровлению».
Он получил ответ на это письмо уже с Корсики, куда Лиза уехала одна, после решительного объяснения с мужем... «Я тоже плакала, но не горько, а от счастья, — писала она. — В молодости твои письма не всегда приносили мне счастье, и случалось, что я часами, а иногда целыми днями не открывала их, стараясь продлить ожиданье. О тебе больше всех знала Шура, и я до сих пор болезненно переживаю нашу с ней, теперь уже, должно быть, непоправимую разлуку. Георгий знал, что я люблю тебя, видел и понимал силу моего чувства, но, разумеется, и он никогда не читал твоих писем, кроме того, которое я просила тебя написать, чтобы легче было обмануть его и поехать в Париж. Теперь — господи благослови! — никого не надо обманывать. Мы расстались спокойно, я отправила его вещи с Джакомо, а сама решила остаться на зиму здесь, где жизнь дешева и можно работать. Так что не кори себя, мой дорогой! Все к лучшему. И не потому мы разошлись, что я провела с тобой тот благословенный день, а потому, что я для него — «дом», а он для меня — сделка с судьбой.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу