– Вот под кем поспать доведется, – зло кинула Кате Пырякиной шагистая Анчурка, жена сапожника Петьки Кудеярова.
Катя вбежала в избу, передала весть о Карасюке Николаю. Николай усмехнулся, почесал за ухом, слез с полатей и боком сел на скамейку.
– Нас это не касается. Пускай хоть десять Карасюков идут, – проговорил он, вглядываясь во тьму ночи, скрывая от Кати какую-то, еще ему самому непонятную тревогу.
С той минуты, как спас на Волге Огнева, он разом уверовал в него и вечером, после схода, ложась спать, сообщил Кате:
– Этому человеку доверить себя можно со всеми потрохами. Ну, раз себя не жалел для ребят, значит – ему можно.
С этой мыслью Николай и заснул, а поутру, вернувшись от Огнева, сказал, что отдал себя в руки Степана: «На, мол, бери, делай, что хошь», – и, как бывало в парнях еще, погладил костлявые плечи Кати:
– Заживем хорошо… И ты нальешься… А то глядеть на тебя – беда… А там, смотришь, кости скроются. А то и родишь. А?
Катя, краснея, склонила голову.
– Нас это не касается, – еще раз проговорил Николай. – Брехне не верь… и вообще… Есть давай.
Катя полезла в печь за щами, и показалось ей, будто стучит она ухватом в пересохшей огромной пасти зверя. Подбородок у нее задергался, глаза заволоклись мутью. В артель и она поверила: там она поправится, появится у нее ребенок, тогда и ее не будут бабы называть «проноской»…
– Не касается!.. А Анчурка Кудеярова вон говорит: «Вот под кем поспать доведется – под бандюками». Это она про меня.
– Ей башку-то свернуть на рукомойник: болтать не будет.
– Когда еще свернешь!
– Ну, брось, – ласково прикрикнул Николай, протягивая ложку к серым щам. – Разговору на селе вообще не оберешься. Утресь Железный, – так звал он Чухлява, – тоже намеки… Да наплевать! – Но, сказав это, он почувствовал, как у него по спине побежали холодные мурашки. – Он отмахнулся, решая: «Поем, вздремну, а утром сбегаю к Огневу».
– Ты, Коля, гляди… какие ни на есть мохры… и те утащат…
– Гляжу! Гляжу!
Через разбитое стекло сквозил легкий весенний ветерок. Он обещал высокую, с тяжелым колосом пшеницу на «Брусках», тянул на огороды к толстопузой капусте, к зеленым, сочным огурцам.
«Отчего мир так устроен – чего хочешь, то не делается?» – подумал Николай и, повернувшись к Кате, проговорил:
– Нас не тронут: мы не коммунисты… – и опять смолк, а дрожь чаще забегала по спине. – Фу, – он отфыркнулся и, сдернув с гвоздя пиджачишко, выбежал из избы.
На улице в темноте в ясном говоре весны скрипели ворота, двери изб, запоры, во мглу неба взметывались отблески фонарей, на соломенных крышах колыхались огромные тени, где-то ржали лошади, тревожно мычали коровы, – люди готовились к встрече неведомых гостей.
Николай, давя молодой ледок, побежал к избе Огнева, застучал в стекло.
– Кто? – послышался голос Огнева.
– Открой-ка, – и, вваливаясь в сени, Николай выпалил: – Банды!
– Где? Чего ты орешь? Хлебнул, что ли? Знаешь – в артели пить не полагается.
Николай шумом разбудил Стешку. Она улыбнулась, протерла глаза, посмотрела с полатей вниз. За столом сидели Степан Огнев, дедушка Харитон, мать Стешки Груша и Николай Пырякин.
– Банды, говорю, идут. Все уже укладываются, бегут, – напирал Николай.
– Да-а-а, – Степан зевнул. – Верить-то этому?
В позевоте отца Стешка разом почувствовала беду.
– О-ох, верить-то этому, – Степан еще раз зевнул. – В зайца превратишься: только и будешь прыгать, а работать не знай когда.
Стешка быстро накинула на себя серенькое платье, прибрала распущенные волосы и спустила с полатей голые мускулистые ноги.
– Ты, Стешенька, что?… Спала бы… А впрочем, слезай… Слезай, впрочем.
И этим Огнев дал знать, что надо собираться.
Вместе с вестью о переправе через Волгу банды Карасюка Егор Степанович получил весточку о том, что в село Алай – девять верст от Широкого Буерака – лесничий, торгаш Петр Кульков, привез две бочки керосину. Эта весточка больше его заинтересовала, и он рано утром на пегой кобыленке снарядил Яшку за керосином. Потом весь день ждал сына. Не раз ругал себя дураком. Ему казалось, что лошадь и Яшку забрали карасюковцы. И он долго и тоскливо из-под сарая смотрел в окошечко на алайскую дорогу. А вечером, когда молва о карасюковцах затрубила по селу, Егор Степанович кинулся в конюшню и золой начал растирать гнедой кобыле холку там, где полагается быть седлу. Кобыла жалась от боли, поднимала ногу. Егор Степанович прикрикивал на нее – она поворачивала голову, жалобно смотрела на быстрое движение его рук.
Читать дальше

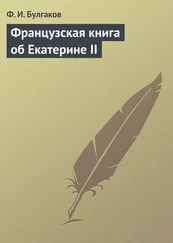






![Федор Панфёров - В стране поверженных [1-я редакция]](/books/393778/fedor-panferov-v-strane-poverzhennyh-1-ya-redakciya-thumb.webp)
![Федор Панфёров - Борьба за мир [2-я редакция]](/books/398428/fedor-panferov-borba-za-mir-2-ya-redakciya-thumb.webp)


