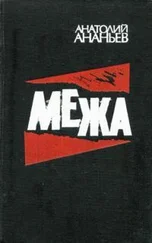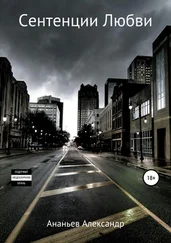Как солдат, пришедший с войны, хранит свою видавшие виды старую, потертую, иссеченную осколками шинель, так храню я тот зеленый брезентовый дождевик с капюшоном, и каждый раз, когда, перекладывая, беру его в руки, мне бывает приятно чувствовать его грубость и слышать его особенный жесткий шорох, он кажется мне промокшим, как и в оные времена, и крупные капли, дробясь, будто стекают с него на пол. «И этот дождь, что за окном автобуса, и тот, что хлестал на полях, и вообще... кому-то надо же работать в управлении!» — говорю я себе в такие минуты для утешения и оправдания. Но грустное настроение и воспоминания продолжают идти своим чередом, и все более жизнь кажется направленной не по тому руслу, по какому бы надо, а цель — неясной, скрытой, как та гостиница в дождевом мраке ночи, в которую везет тебя автобус и в которой еще неизвестно, есть ли свободный номер или нет его.
«Да скоро ли она, эта гостиница?»
«Смотря какая. У нас в городе две: «Заря» и «Колос».
«Мне все равно; которая ближе».
«Вам лучше в «Колос». Это два квартала, если вы сойдете на площади Партизан, а если немного раньше, на углу Пролетарского проспекта, возле универмага, то вам придется...»
Слава богу, на сей раз повезло, сосед по сиденью оказался отзывчивым, и я с благодарностью смотрю на него и слушаю, что он говорит; я все понимаю, как нужно идти, где повернуть налево, где направо, мимо какого киоска и какой витрины, но это лишь кажется, что все понятно; как только ты вышел из автобуса и очутился один на мокром асфальте, среди редких уже огней, среди незнакомых, темных домов, мрачно возвышающихся на таком же ночном мрачном дождевом небе, все ориентиры вдруг как бы исчезают, и ты уже не видишь того киоска, о котором говорили тебе, и витрина давно уже не горит, а за углом направо здание оказывается не таким, как оно было обрисовано, и ты идешь, захлестываемый дождем и ветром, несешь в руке свой надоевший и кажущийся тяжелым чемодан, произносишь про себя не раз говореное и переговоренное: «Ну и выбрал же ты себе жизнь!» — и уже мысли о доме, семье, о тепле и уюте, который ты вынужден был оставить ради этой, может быть, даже незначительной, во всяком случае, конечно же, не срочной командировки, постепенно возникают и заслоняют собой все. Я знаю, есть любовь к земле, к родным местам, к Долгушинскому отделению, например, как у меня, где прошли самые счастливые, как я уже говорил, годы моей жизни, но есть еще любовь к жене, детям, и она так же сильна и так же порой необъяснима (говорят же: «Что он нашел в ней: и не броска, и не красива, и характером строга, а вот поди ж ты — нашел!»), как десятки других человеческих привычек и слабостей; она необъяснима и во мне, но она есть, и я рад, что она есть, и в трудные и одинокие, как теперь, минуты я вижу комнату, где лежит Наташа, вижу тусклый розовый ночничок, без которого ни она, ни дети, когда остаются одни, не могут спать, и весь уклад жизни, все, что повторялось изо дня в день, будничное и незаметное, открывается вдруг как бы новою, неведомою раньше стороною, становится ближе, дороже, роднее. И хотя гостиница уже найдена, и тебя определили, может быть, не в лучший, но все же в довольно приличный номер, волнения кончились, и ты лежишь, укрывшись холодным казенным одеялом, но долго еще не можешь заснуть, потому что воспоминания так навязчивы и так приятны, что тебе не хочется ни выключать стоящую на тумбочке лампу, ни ворочаться, ни разглядывать обои в незнакомой комнате, а шум дождя за окном уже не вызывает тревоги, и весь ты как бы переходишь в иной и привычный тебе мир, каким жил только что, день назад, перед тем как ехать сюда, но с той лишь разницей, что все, что ты делал и о чем думал дома, ты повторяешь сейчас как бы на виду у себя, в воображении, и даешь всему другие, порой удивительные и неожиданные оценки. Я люблю эти минуты; они мне кажутся откровением перед самим собою, чего лишены мы в повседневной нашей жизни, вечно стремясь, спеша, суетясь и в конце концов не успевая, в сущности, сделать ничего значительного.
Я вижу свой дом в нешумном городском проезде, как будто, возвращаясь с работы, подхожу к нему со стороны сквера, и зеленые ветви лип, свисающие к земле, обтекают лицо, плечи, и кажется, что так и веет от них сыростью и свежестью леса, чем-то грибным, устоявшимся, знакомым еще с далеких детских лет, и усталость дня словно снимается с плеч; особенно когда ручной косилкой, жужжалкой, как еще называют ее в народе, постригают травяные газоны, полянки, и тогда, как со скошенных лугов, тянет запахом подсыхающего сена, я останавливаюсь и с наслаждением вдыхаю этот редкий в условиях городской жизни и, надо добавить, дорогой, бесценный воздух. Я стою и смотрю на дом, машинально отыскивая взглядом балкон на шестом этаже и окно своей квартиры, и чувство удовлетворения, что живу именно здесь, в лучшем, по моему твердому убеждению, и самом зеленом квартале города и что не просто живу, а достиг чего-то, заслужил, заработал, хотя бы квартиру в этом вот месте и этом будто плечом выдвинутом на улицу кирпичном доме. Но сейчас я лишь наблюдаю за собой — тем, стоящим в сквере, и наблюдать приятно, и приятно испытывать то знакомое чувство. Когда я выхожу с работы, всегда звоню жене: «Иду!» — и эта уже укоренившаяся привычка тоже представляется теперь особенной; там, со сквера, откуда я смотрю на дом, я вижу открытую форточку в кухонном окне и знаю, что Наташа в эту минуту собирает на стол. Накормить семью, накормить человека — это не просто. Чаще всего мы не задумываемся над этим, а садимся за стол, берем ложку или вилку и начинаем есть, улыбаясь и не замечая, как вкусно все это приготовлено, и, конечно же, не спрашивая, сколько потрачено на этот обед или ужин времени и усилий, сколько вложено выдумки, старания и любви; нам важно, что все это есть на столе и что есть еще вечерняя газета, кресло, в котором можно, откинувшись и вытянув ноги, посидеть, получитая, полудремля, часок, или поволноваться у телевизора, когда идет передача кубкового матча, и все это не только не представляется предосудительным, но кажется, что ничего иного и не может быть, что в этом и заключается теплота и уют семейной жизни. Я тоже по вечерам сижу в кресле и просматриваю газеты, и теперь, лежа в номере на гостиничной койке, с удовольствием думаю, что и у меня есть такая возможность; но вместе с тем именно здесь, на отдалении, жизнь как бы выходит из личных рамок, и ты чувствуешь не только себя, вернее, не столько себя, как близких, родных тебе людей, и жизнь их становится тебе понятней, дороже и трогает душу. Десятки раз я открывал дверь Наташе, когда она по воскресным дням, возвращаясь из магазинов, входила в прихожую с переполненными и оттягивающими руки сумками, и открываю ей теперь, в воображении, но только теперь я вижу, как белы от напряжения ее пальцы, слышу вздох облегчения, когда она ставит на пол сумки, и вижу слегка бледноватое, усталое, но иногда счастливое (счастливое тем, что удалось достать что-то вкусное к обеду) лицо, и мне ясно, чем она живет, что думает, чувствует, и оттого, что ясно все, и еще более оттого, что я знаю, что делается это от любви ко мне, к семье, и делается с добрым чувством, я не просто удовлетворен, но испытываю то маленькое счастье, какого часто бывает достаточно человеку, чтобы быть довольным судьбой.
Читать дальше
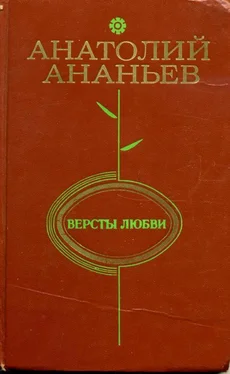
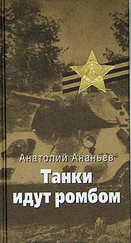





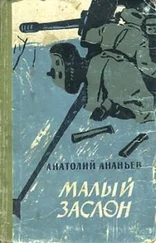

![Анатолий Ананьев - Танки идут ромбом [Роман]](/books/404190/anatolij-ananev-tanki-idut-rombom-roman-thumb.webp)