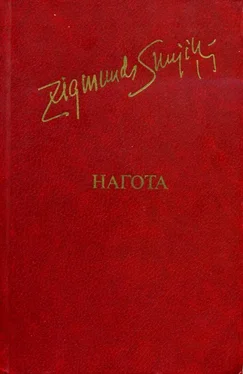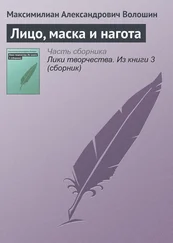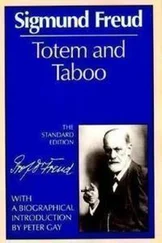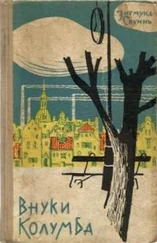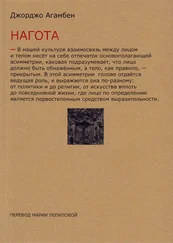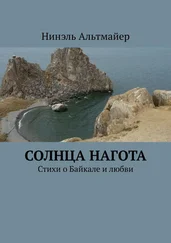Они были словно натянутые луки с тугой тетивой и очень старались ее удержать. Лук, обращенный к нему, все более круглился, изгибался, он хорошо это чувствовал, будто тот лук был из гладкого и теплого металла. Потом стрелы все же сорвались, это он тоже почувствовал, до того отчетливо, что, казалось, увидел: вот вырвались стрелы и полетели, потому что сила, пославшая их, была сильнее той, что стремилась их задержать, и стрелы летели по синему небу, озаренные солнцем, совсем как стрижи в летний день над любимым его озером Буцишу.
Он расслышал вздох Ливии, так недвусмысленно льстивший мужскому самолюбию. Сколько ему лет? Сорок шесть? А почему не двадцать шесть? Впрочем, возвращение к двадцати шести годам его не очень привлекало, в ту пору он нередко делал глупости, растрачивал себя попусту.
Лицо жены на белой подушке в темноте казалось молодым и ясным, как и в тот раз, когда он впервые увидел Ливию на факультетском вечере. Это лицо, в иное время такое обычное, с морщинками на лбу, с гусиными лапками в уголках глаз, с увядающей кожей и чуточку запавшими глазами, теперь как будто все лучилось изнутри.
Он откинул одеяло, нащупывая в темноте шлепанцы, и вдруг подумал, что у любви есть свой особенный запах. Чем-то схожий с запахом засыпанных зерном амбаров.
— Послушай, — заговорила Ливия, и голос ее прозвучал мечтательно, — я как-то рассказывала о хоре мальчиков, они пели ангельскими голосами.
— Да, помню.
— А ты тогда рассмеялся: где это я слышала ангельские голоса?
— Ну и что?
— Ничего. Просто так.
Он вернулся, снова лег под одеяло.
— А правда, ты никогда не слышал ангельских голосов?
— Нет.
— Очень жаль.
Ему не хотелось думать, не хотелось говорить. Кровать плыла в темноте, точно пригретый солнцем плот.
Ливия расспрашивала, как прошел день на работе, у нее возник новый план, как провести отпуск, на автобусной остановке она встретила тетушку Берту, а Вита сегодня получила письмо.
— Ну и пусть на здоровье получает, — отозвался он. Слова Ливии приходили издалека. — Когда же, если не сейчас, получать.
— Говори потише, может, Вита еще не спит. Вчера зашла к ней в комнату, а вы здесь разговаривали — так отчетливо слышно.
— Бедные родители. Даже ночью в постели приходится детей остерегаться.
— А мне бы хотелось знать, кто ей пишет.
— Что ж, могу тебе сказать: Эдмунд.
— Эдмунд? С какой стати! Они каждый день видятся.
— Так что же? Эдмунд по уши влюблен в Виту, у него на лбу это написано.
— Опять ты паришь в облаках, опять все путаешь. Эдмунду Вита нравилась до одиннадцатого класса, но это было несерьезно. Теперь Эдмунду нравится Ева, и это всерьез. А в Виту влюбился Ивар. Но почерк Ивара я знаю, у него он прямой, а этот наклонный.
— Ева? Та светловолосая девочка? — При мысли о стройной красотке с пышным бюстом ему зачем-то захотелось помянуть недостающую пуговку, но он промолчал.
— Она, только не девочка, уже побывала замужем. Год, как развелась. Жила в Москве.
Над ним зажурчал назидательно-печальный рассказ о заблуждениях юности: легкомысленное увлечение, опрометчивое решение, дурные последствия...
Он дослушал до того места, когда Ева, разругавшись со свекровью, отправилась ночевать на вокзал. Он еще успел подумать: не везет этим Евам в любви. Но потом навалился сон. До него все еще долетали отдельные слова, но они тут же рассыпались; смысл их терялся, и только звуки равномерно плескались вокруг, словно волны о край плота, понемногу окатывая и захлестывая его.
...Опять я проснулся, опять не сплю. Почему? Ничего у меня не болит, ничего мне не нужно. Только во рту почему-то сухо, и сердце стучит, словно после пробежки. Ливия дышит ровно, свернувшись, как белка, в комочек на своей половине кровати. Тихо, темно. Прислушиваюсь — не прогремит ли гром, не полыхнет ли шипящая вспышка молнии, не захлебнется ли от лая Муха за стеной. Нет, ничего не слышно.
И понемногу возвращается память. Это похоже на то, когда черпаешь воду из бочки: поначалу лишь взбаламученная поверхность, волны, брызги, завихрения, а когда все успокоится, даже дно увидишь. Конечно, виной всему все тот же надоевший до чертиков сон. Отвратительный сон, и всякий раз он начинается по-разному, с безоблачных детских воспоминаний, с приятных картинок минувших дней, с веселых встреч с давними друзьями, потом словно западня защелкнется. В конце всегда одно и то же: я играю в шахматы, мой ход, а я не знаю, какую фигуру куда двинуть. Со стола исчезли клетки. А часы продолжают тикать, и они подключены к адской машине. Время рушится, падает, рассыпается в прах.
Читать дальше