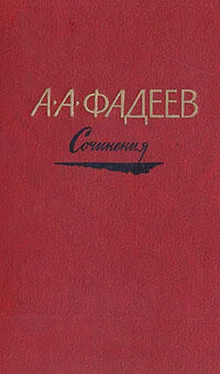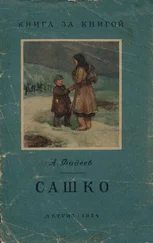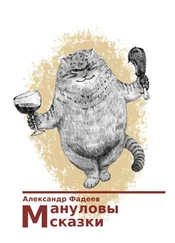Он пробыл в городе двое суток, занятых беготней по делам Сережи, и только за час до отхода поезда забежал к Лене проститься. Он застал ее одну.
Он держал себя беспокойно, и с лица его не сходило знакомое Лене в его обращении с матерью выражение виноватости.
— Учишься хорошо? Учителя не обижают? — все время спрашивал он.
Прощаясь, он судорожно схватил Лену за голову своими костлявыми руками и несколько раз быстро прижал ее к груди, потом поцеловал куда-то в переносицу, — что-то клокнуло у него в горле, и он, дернув себя за бороду и мигая, нахлобучил шляпу и вышел, ни разу не оглянувшись на Лену.
Сережа поступил в гимназию. Он жил у переселенческого фельдшера на Эгершельде, за тридцать рублей в месяц на полном пансионе.
Изредка он навещал Лену; и еще более редко, почти украдкой, она заходила к нему: в семье Гиммеров неодобрительно относились к тому, что она посещает квартиру переселенческого фельдшера.
Приходя к Гиммерам, Сережа сильно дичился и всегда старался вытащить Лену на улицу. Обедать он оставался только в том случае, если была возможность пообедать вдвоем, и ел так много, точно на всю жизнь. О семье Гиммеров отзывался с холодным презрением — чужими, взрослыми словами.
У себя же дома и на улице Сережа был обыкновенным смешливым, озорным мальчишкой. Бездетные фельдшер с женой баловали его, как родного.
Несмотря на разницу в годах, Лена сдружилась с Сережей и скучала, когда он уезжал в деревню на рождественские и летние каникулы.
Сережа приносил с собой свежий ветер мальчишеских драк, походов на пристань, где он со своими сверстниками ловил крабов или воровал мандарины и кокосовые орехи. Лена убеждалась, что ворованные мандарины и орехи всегда вкуснее купленных. Он частенько ходил в синяках, с продранными локтями и коленками. Карманы его всегда были наполнены любопытнейшей дрянью, из-под рубашки свисала дутая резинка от рогатки: он без промаха попадал в электрические лампочки и охотился с рогаткой на птиц на кладбище или в рощах за Орлиным гнездом.
— Разве тебе не жалко птичек? — спрашивала Лена.
Сереже бывало, конечно, жалко птичек, но он никогда бы не сознался в этом Лене, и он отвечал словами, какими ему самому ответил его уличный сверстник, типографский ученик:
— А чего их жалеть? Людей не жалеют, а мы будем птичек жалеть.
Иногда ему удавалось увлечь Лену с собой на Орлиное гнездо.
С горы открывался вид на корпуса и трубы военного порта, на залив Петра Великого, на дымную бухту, заставленную судами, на зеленый лесистый Чуркин мыс. За мысом простиралось Японское бирюзовое море, видны были скалистые, поросшие лесом голубые острова.
По эту сторону бухты теснились расцвеченные солнцем дома: они, лепясь, лезли на гору; видна была извивающаяся, кишащая людьми лента главной улицы и вливающиеся в нее боковые пересеченные улочки. Влево и вправо по горам и падям в дымке от фанерных заводов и мельниц тянулись слободки — Рабочая, Нахальная, Матросская, Корейская, Голубиная падь, Куперовская падь, Эгершельд, Гнилой угол. У заднего подножия Орлиного гнезда начинались зеленые рощи, за рощами — длинные холерные бараки, за бараками — одинокое, тяжелое, темно-красного кирпича здание тюрьмы. Огромное небо покрывало все.
И, подпирая небо, как синие величавые мамонты, стояли вдали отроги Сихотэ-Алиньского хребта.
Орлиное гнездо во время русско-японской войны было изрыто окопами и блиндажами; теперь они превратились в пещеры. Страшно было лазить по ним. Вылезши на божий свет, Лена и Сережа гонялись друг за другом, барахтались, визжа, как щенки, кубарем катились с горы, пугая голубей, пока не опустошались вконец.
Иногда Сережа брал с собой Лену на пристань. Это было опасное предприятие: няньки пугали детей хулиганами с пристани; хождение на пристань каралось училищным начальством.
На пристани пахло рыбой, мазутом, апельсинами, водорослями, опием. Бухта была забита торговыми, военными, парусными, паровыми судами. Меж ними сновали шлюпки, китайские шампуньки, шаланды. Суда приходили со всех стран света, украшенные пестрыми разноцветными флагами.
Сережа и Лена бродили меж цинковых пакгаузов, тюков и ящиков с товарами, портовых кабаков и парикмахерских, оглушаемые грохотом лебедок, ревом сирен, пьяными песнями, руганью матросов и грузчиков, сновавших о тяжелыми кладями по подгибающимся сходням, — разноязыким говором — китайцев, японцев, американцев, французов, корейцев, малайцев, индусов, кишевших на пристани в своих разноплеменных одеждах — синих робах, матросках, круглых, похожих на поварские, белых и синих шапочках, китайских ватных шароварах, корейских халатах, японских кимоно, индусских и малайских белых, желтых чалмах.
Читать дальше