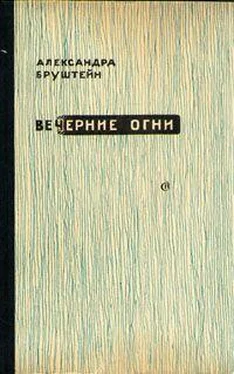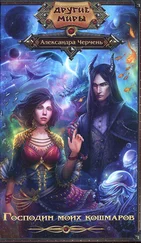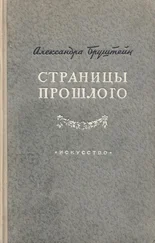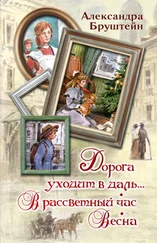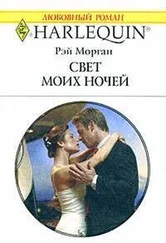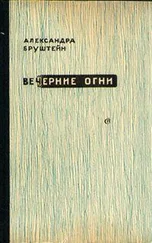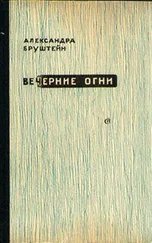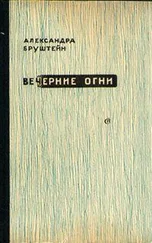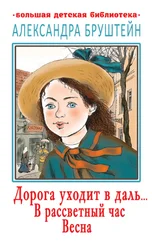— Бабушка! Пожалуйста, не уезж-жай! Мне будет ужасно скучно…
Всегда буду помнить, как между ребрышками трепетали и бились под моими руками ребячьи сердца… Никогда не обманывайте детей, если хотите, чтоб из них выросли люди!
Потом они успокоились. Они вели себя мужественно. Они провожали меня вниз, в подъезд, до самой двери…
Лишь приехав в гостиницу, откуда меня назавтра должны были увезти домой, в Москву, я почувствовала, как итог всего пребывания «у Филатова», смертельную усталость. Душа имеет свою емкость — вот так же, как бочка, ведро, рюмка. Когда она много недель подряд вбирает в себя чужое горе, она в какой-то день достигает порога насыщения, даже перенасыщения. Тут только я поняла во всей полноте еще и эту сторону подвига В.П. Филатова и его сотрудников: они работают под постоянным, почти неодолимым грузом человеческого горя.
Я уезжала с тяжелой мыслью о Сашке и Нюрочке. Они остались «у Филатова». Им еще предстояли операция. Правда, спустя какое-то время мне сообщили, что они прозрели, что все прошло благополучно. Но от них самих я не получала никаких известий: слепым детям надо было не только прозреть, но еще и научиться грамоте!
…Прошел ряд лет. Однажды мы, несколько человек, возвращавшихся из театра, втиснулись в переполненный вагон московского метро. Меня протолкнули вперед, спутники мои остались позади и беспокоились обо мне.
Рядом со мной оказался юноша лет шестнадцати. Он не смотрел в мою сторону, а у меня вдруг возникло то ощущение «знакомости», какое знаем мы, старики: ведь мы так давно ходим по земле, мы столько и стольких видели! Где я видела этого мальчика?
Пропуская вперед кого-то из пассажиров, юноша повернулся ко мне, скользнул по мне равнодушным взглядом. Нет, он меня не знает, он видит меня впервые. А меня все сильнее сверлила мысль: где же это я его видела? Да, видела, видела! Только глаза его были мне незнакомы.
— Александра Яковлевна! — закричал сзади кто-то из моих спутников. — Александра Яковлевна, где вы там?
Юноша посмотрел на меня, словно внезапно заинтересованный.
— Вы Александра Яковлевна? — спросил он. Голос его был мне незнаком.
Я утвердительно кивнула.
— Вас зовут. Отчего не откликаетесь?
— Я не слышу, — объяснила я. — Я глухая.
Неожиданно юноша взял обеими руками мою правую руку. Нашарил на руке кольцо — и обрадовался!
— Бабушка! Это вы?.. А я — Сашок, помните?
Это и вправду был Сашок. Он сперва не узнал меня, хотя и был теперь зрячий, — ведь он никогда меня раньше не видал. Его заинтересовало услышанное имя и отчество; потом он узнал мой голос, мою глухоту, кольцо на моей руке. Я тоже узнала его не сразу, — он теперь был почти взрослый, девятиклассник! И глаза у него были не те, что раньше: на них не было прежних голубоватых бельм! От этого и показались они мне незнакомыми.
Вот это была встреча!
Мы, больные, всегда посмеивались, когда по утрам обходила палаты санитарка с листком в руке.
— Больная Громова. В одиннадцать часов. На прием к академику Филатову… Больная Волохова… Больная Сергеева…
Иногда это читала по листку пожилая санитарка тетя Мотря, иногда юная, смешливая Дуся, в иные дни высокая, как гренадер, Тамара или приземистая — «тумба тумбой» — Маруся. Но все они возглашали это одинаково: «дымчатым» голосом. В словах «на прием к академику Филатову» звучала торжественная медь. Да и все люди, работавшие с В.П. Филатовым, окружавшие его или хотя бы только встречавшие его в жизни, всегда говорили о нем не тем голосом, не тем тоном, как о прочих людях, иногда тоже очень крупных и значительных.
Единственным человеком, говорившим об академике Филатове без всякой торжественной «дымчатости», был сам В.П. Филатов. Это тем удивительнее, что у выдающихся медиков, возглавляющих научную школу, научно-лечебное учреждение, часто возникает своеобразное «жречество». Уже в ежедневных врачебных обходах, когда глава учреждения шагает неторопливо и важно, окруженный ученым синклитом ассистентов, заведующих отделениями и разноранговых научных сотрудников, есть что-то церемониально-торжественное. И это хорошо, потому что впечатляет больных, внушает такую нужную им надежду: здесь меня исцелят! Однако иные профессора, сами того не замечая, сохраняют и в жизни ту же повадку верховных жрецов.
Не было этого жречества у В.П. Филатова. Не этим впечатлял он людей, не этим привлекал их к себе неотразимо, не этим вызывал их восхищение. Секрет был в другом.
Читать дальше