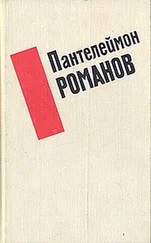Передо мной моя жизнь вся ясная, с необъятной задачей, божественно легко мною разрешающейся.
Я не пишу лирических излияний. Но это итог огромной полосы жизни. Это зрелый крик радости с достигнутой вершины.
Я проведу по миру такую борозду, которой не сотрет никто. Даже время». [16] ЦГАЛИ, ф.1281, оп.1, ед. хр.92, л.26.
В конце жизни Романов под массированным натиском нормативной критики стал терять ориентиры. Он начинает перерабатывать «Русь», идя не от жизни, а от идеологических схем. По свидетельству А. И. Вьюркова, Романов говорил: «Вы читали мою «Русь». Думаю ее заново переработать. Не так ее надо было давать. Вот сейчас я засел за изучение истории империалистической войны, истории марксизма-ленинизма, и всё, что я написал в «Руси», подлежит коренной ломке. Многое я допустил в ней ошибочного, неправильного. Видите, сколько я прочитал, — показал он мне не груду книг». [17] Там же, ед. хр. 111. л. 5.
Думается, если бы он довел работу до конца, то загубил бы и то, что им было написано ранее.
Дело было, конечно, не в идеологической концепции. Так, например, критик Г. Горбачев видел основной недостаток «Руси» «в слишком беглом изображении деревни, как безнадежно бездейственной, равнодушной ко всему, умеющей лишь праздно трепать языком да бестолково суетиться, собираться сделать горы работы, а на деле неспособной даже мостика починить». [18] Горбачев Г. Современная русская литература. Л., 1929. С 129.
Тот же Горбачев признавал, что Романов создал в своей эпопее «ряд четко врезающихся в сознание живых фигур, достойных стать надгробными памятниками погибшему укладу жизни». [19] Там же.
Замедленная, часто перегруженная малозначащими сценами и персонажами, эпопея обнаруживала тот главный недостаток, который в свое время подметил Короленко в этюде «Суд», — несоответствие между содержанием и размерами произведения. И это несоответствие дает себя знать при всей убедительности многих образов и ситуаций, позволяющих читателю представить русское общество перед первой мировой войной.
Следует отметить, что в бурном непрекращавшемся потоке критики, обрушившемся на П. Романова, «Русь» пострадала меньше всего. Видимо, некоторых всё же останавливала масштабность книги. Так что, пожалуй, в отзывах на роман в прессе 20-х годов преобладали положительные оценки.
«Русь» — книга подлинной литературы, которая своей традицией имеет романы Льва Толстого, Гончарова… Надо отметить, что наиболее типичные черты уездной помещичьей жизни накануне войны 1914 г. им запечатлены очень выразительно», — отмечал Ю. Соболев. [20] Жизнь, 1925, № I. C.423.
Л. Войтоловский, указав, что «Русь» «воскрешает в памяти» приемы и образы Гончарова, Гоголя, Чехова, Л. Толстого, пишет: «Повесть П. Романова не работа безграмотного продолжателя, не любительская копия, а художественно сделанное полотно, где голоса и краски прошедшего крепко спаяны и неразрывно слиты с людьми живой современности. Перед нами сочный барский усадебный быт… Во всяком случае это недоконченное выступление П. Романова надо признать более значительным и ценным, чем законченные творения многих других авторов». [21] Красная новь, 1924, № 6. С. 351–354.
А вот отзыв о Романове как авторе «Руси», принадлежащий В. Ф. Переверзеву, критику, весьма скупому на похвалы: «…данные у автора есть, он умеет рисовать типичные характеры твердым четким рисунком, напоминающим мастеров гоголевской школы; он знает секрет простой, но крепко слаженной композиции, давно утерянный беспозвоночными писателями эпохи импрессионизма». [22] Печать и революция, 1924, N2 5, с. Л 38.
Стоит напомнить и об отзыве А. Луначарского о первой части «Руси»: «При чтении ее встают в памяти образы, положения, черты и события, занесенные уже на полотно кистью наших великих классиков. Самый стиль напоминает то Гончарова, то Тургенева». [23] Известия, 1922, 22 марта, № 65, с. З.
«Он явным образом прошел через школу наших классиков…» — соглашается и И. Федоров (И. И. Скворцов-Степанов), который в целом роман считает вредным, написанным с враждебных революции позиций. [24] Предреволюционная Россия в отображении Фирса. Известия, 1926, 11 июня.
Разнобой в подходе к роману, в его оценке, в характеристике его персонажей и авторской концепции, помимо всего прочего, свидетельствует о том, что «Русь» — явление не однозначное. Как течение самой жизни, даже одни и те же ее коллизии вызывают различные оценки у разных людей, так и эта эпопея, в которую Романов хотел вместить огромный кусок жизни, по возможности не давая никаких оценок происходящему, вызывает разное к себе отношение.
Читать дальше