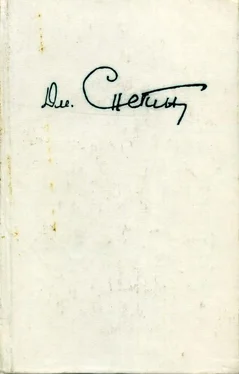Мичурин был весь пропитан солнцем, и его поредевшие волосы обильно припудрила пыльца. Коричневато-золотистый загар покрыл кожу лица и рук, и она пахла яблоком. Он не был богом. Он был весь земной. И когда прохладный ветер резко задувал, он простудно кашлял, и секретарь слезно просил его войти в дом.
— То ты меня выпроваживаешь на улицу, то загоняешь в комнату. Отстань! — совсем по-людски сердился Иван Владимирович и спешил с нами в глубь своего сада.
В саду он молодел.
— Святое беспокойство должно гореть в ваших сердцах. Да — святое. Я не боюсь этого слова, безбожники, — возвышал он голос, если замечал, что мы начинаем работать с прохладцей.
Весь от сердца до мысли — материя, Мичурин верил в святое страстно и беспокойно. И зажигал нас этой верой и этим беспокойством.
В канун нашего отъезда Иван Владимирович почему-то очень разволновался. Даже нервничал. Голова тряслась сильнее обычного. Движения резки, угловаты. И лишь глаза — прежние. Проницательные. Освещены светом беспокойной, постоянно ищущей мысли. Люди с такими глазами не бывают рассеянны чудаковатой рассеянностью, которой писатели наделяют ученых преклонного возраста.
Пора бы и на вокзал. А он:
— Идемте!
Он спешит, опираясь на свою толстую и очень легкую палку, в запущенный угол сада, где, как нам казалось, ничего интересного не росло. Останавливается у какого-то куста. Распрямляется, как распрямляется могучее дерево, которое гнет ураганный ветер, да так и не может согнуть.
Человеку труднее: его клонит ураган времени. А он распрямляется. Оглядывает каждого из нас молодыми глазами — в них сейчас светится торжество победителя. Мы притихли, понимая, что вот-вот совершится таинство.
Мичурин говорит, и голос выдает его волнение:
— Взгляните сюда, юные друзья. Что вы видите перед собой?
Перед собой мы видим куст барбариса. Да, обыкновенный колючий барбарис. Он растет и на склонах Тянь-Шаня. Ранней весной дети любят полакомиться его молодой, приятно вяжущей во рту листвой. Так мы простосердечно и объясняем ученому.
— Совершенно верно, — сдержанно улыбается он одними глазами. — А это обыкновенная ягода барбариса. Пробуйте, пробуйте смело! Она еще не созрела, но не в этом суть... Ага, я вижу на ваших лицах восторг и сомнение. И я счастлив. — Иван Владимирович гремит. — Вы согласны, вы убедились: ягода лишена косточки, семени. Понимаете — семени, то-есть самого сущного, что дано всему на земле живому?
Мы невольно ежимся. Честно признаться, становится страшновато: да, барбарис — колючий кустарник. Но его лишили возможности размножаться при помощи семени. Лишили возможности создавать само семя! Потрясены основы основ! И мы, молодые плодоводы, мечтавшие о революционных свершениях, чувствуем себя роковым образом обойденными. Угнетает собственное ничтожество: наши самые фантастические замыслы не простирались столь далеко! Горько.
Он продолжает говорить. Но уже спокойно, властно и чуточку грустно:
— Все началось давненько. И просто. Доктор, мой сосед — такой же чудак и мечтатель, как ваш покорный слуга, — однажды сказал: «Вот, Иван Владимирович, ты все колдуешь над растениями, стараешься переделать саму природу. Спору нет, многое тебе удается. Но возьми обыкновенную ягоду барбариса: интересная для медицины штука, а косточка мешает делать полезные экстракты. И ничего не попишешь: косточка есть семя, продолжение потомства, так сказать. Создана, если не по велению божию, поскольку ты не веруешь во всевышнего, то тайными силами природы, против которых бессилен даже такой человек, как ты. Потому — это противоестественно». И засмеялся. Ничего я не сказал моему милому, ныне давно покойному доктору в то сентябрьское, полуденно-солнечное равноденствие. Он был в летах, а я молод силой наступившей во мне зрелости. Но передав мне такую задачу, доктор как бы тоже приобрел силу, и наши чаши на весах времени уравнялись. Много позже я понял, что стал он сильным оттого, что посеял в моей душе такое семя, что лишит покоя и возбудит во мне творческую энергию. — Мичурин снял шляпу, и стало заметно, какой у него могучий и красивый лоб. — С тех пор минуло двадцать семь лет, мои юные друзья. И вот — бессемянный барбарис. Я не знаю, какую пользу принес медицине. Но мечтал разрушить несуществующую тайну таинства. И разрушил. И создал. Все дело рук человеческих. Его ума, воли, беспокойной совести.
Уже прощаясь с нами, Иван Владимирович задумчиво повторил:
Читать дальше