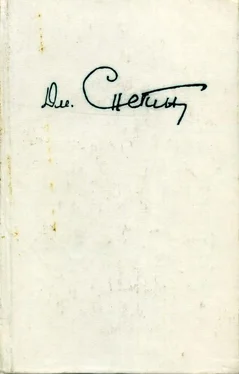Сьянов берет у меня перстень, пристально и долго разглядывает, будто видит впервые.
— Тот немец и подарил мне перстень. Он еще сказал тогда: «Это наша фамильная реликвия. Мои предки были основателями Берлина. С тех пор из поколения в поколение передавался в нашем роду этот перстень. Сегодня передаю вам... Меняются времена, меняются люди. Тот Берлин — в руинах. Честные немцы построят новый Берлин, новую демократическую Германию. В этой борьбе мы хотим быть в одном строю с вами», — и подарил мне перстень. Настоял, упросил. Взял я неохотно. Вечером показал Алексею Бересту и все рассказал.
Берест слушал внимательно, в раздумье обронил: «Дело, конечно, не в сувенире. Сам знаешь — в другом... береги». — Так вот и остался у меня перстень...
Илья собрался уходить.
— Сегодня сын ко мне прилетает. Из Москвы. Институт закончил с отличием.
— Поздравляю... но как же с повестью? Или теперь можно поставить точку?
Он пытливо смотрит мне в глаза, что-то соображая. Потом отрицательно качает головой:
— Нет, точку, пожалуй, ставить рано...
1961 г.
Из окон районной больницы видны деревья с поседевшей от пыли листвой, за ними — тихий тупичок. Здесь привольно уткам, ожиревшим и ставшим ленивыми от обильного корма. По вечерам в тени деревьев отдыхают старушки; отдыхают от внуков, от кухни, от мирских забот.
Там, где тупик впадает в широкую, как степная река, улицу, стоит двухэтажный дом райисполкома, срубленный из кругляка, почерневшего от времени. Возле крутого и высокого крыльца постоянно толпится народ. За тесовой крышей виднеются невысокие, с покатыми вершинами горы. Кажется, до них рукой подать. Но по синеватой, размытой дымке можно догадаться, как они далеко.
Над горами поднялась утренняя заря. Золотисто-жаркого ровного цвета. Лишь верхняя кромка ослепительно бела и искрится, как мелко побитое стекло. Значит — быть зною, головной боли до звона в ушах.
Зной начнет волнами приливать часа через два-три. А пока что в палате прохладно, светло и тихо. Неподвижны занавески. Чистотой и покоем отливает свежевыкрашенный пол.
Ветер принесет удушье и пыль. Но он еще спит — ветер. Потому и осмелела прохлада: мягкой невесомой ладонью касается влажного лба, воспаленных губ, натертой какими-то снадобьями груди.
В такие минуты хорошо думается. Нет — мечтается. Омытая рассветным сиянием, природа спит. Спят люди. Даже вода в реке как бы перестает течь. Дремлет. Только яблоньки поднялись на цыпочки и каждым листиком тянутся навстречу золотистому свету зари. Я вижу их мысленным взором — яблоньки, вдруг зазеленевшие посредине пугающей своими дикими далями атбасарской степи. Слышу их храбрый шепот. Они стараются уверить себя, что им не страшны ни иссушающие землю суховеи, ни лютые морозы. Потому что им надо жить, цвести, приносить плоды на радость себе и людям. Яблоньки, они тоже умеют мечтать. Будь благословенна мечта!
За дверью в узком коридоре возникают какие-то шорохи, мешают моей мечте. Женский голос, наставительный, капризный, убеждает:
— Русским языком тебе говорю — нельзя.
Мягкий, нетерпеливый — юноши — просит:
— Нас же в степи стукнуло, как вы не понимаете. В совхоз позвонить надо.
— Стукнуло. Надо человеком быть, а не шарлатаном.
В коридоре наступает зловещая пауза. Я не могу ее пересилить. Такие паузы мне знакомы по фронту. Много бед они таят, если вовремя не принять мер. И я спешу на поле боя. Миловидная женщина надменно глядит на паренька, который тараном выставил загипсованную руку, решив, пробраться к телефону во что бы то ни стало. А, может быть, юношу обуревали совсем иные чувства: он с ласковым укором смотрел на женщину в белоснежном халате, словно она была ему матерью и только что несправедливо обидела.
— Феня! — тихо окликаю я женщину.
Она грациозно поворачивается, и взгляд ее теряет надменность, теплеет: Феня узнала меня, преобразилась. Легко подбежала и поцеловала в небритую щеку.
Воспользовавшись замешательством в стане противника, паренек исчезает за дверью с табличкой «Регистратура». Мы молчим. Не знаю, что подумала Феня при виде столь дерзкого поступка, а мне хочется смеяться. И я смеюсь.
— Пускай позвонит.
В ее глазах вспыхивает тот притягательный озорной огонек, что доставлял ей еще на фронте не только счастье, но страдание.
— Пускай звонит! — беззвучно смеется она.
По коридору ползет пепельно-траурная тень: на больничный двор въехала белобокая машина с молоком. И я уже не смеюсь.
Читать дальше